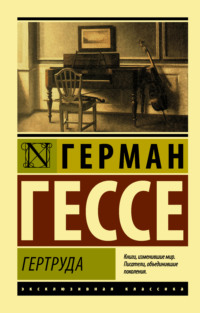
Гертруда
Знакомство наше началось так: вернувшись к занятиям, я принес тому преподавателю, который проявил ко мне такое дружеское участие, свою скрипичную сонату и две сочиненные мною песни. Он обещал просмотреть мои работы и высказать свое мнение. Много времени прошло, прежде чем он это сделал, и всякий раз, когда я с ним встречался, я замечал у него некоторое смущение. Наконец в один прекрасный день он позвал меня к себе и возвратил мне мои ноты.
– Вот они, ваши работы, – сказал он несколько стеснительно. – Надеюсь, вы не связывали с ними слишком больших надежд. В этих сочинениях, несомненно, кое-что есть, и что-то из вас может получиться. Но, откровенно говоря, я считал вас уже более зрелым и умиротворенным, да и вообще не предполагал в вашей натуре такой страстности. Я ожидал чего-то более спокойного и легкого, что было бы технически крепче и о чем уже можно судить с профессиональной точки зрения. А эта ваша работа технически не удалась, и я мало что могу тут сказать, к тому же это дерзкий опыт, которого я оценить не могу, но как ваш учитель не склонен хвалить. Вы дали и меньше, и больше, чем я ожидал, и тем поставили меня в затруднительное положение. Во мне слишком глубоко сидит учитель, чтобы я мог не замечать погрешностей стиля, а о том, искупаются ли они оригинальностью, я судить не берусь. Так что я хочу подождать, пока не увижу еще чего-нибудь из ваших сочинений, и желаю вам удачи. Писать музыку вы будете и впредь, это я понял.
С этим я ушел и не знал, как мне быть с его суждением, которое и суждением-то не было. Мне казалось, что по какой-либо работе можно без труда определить, как она создавалась – для забавы и времяпрепровождения или из потребности, от души.
Я отложил ноты в сторону и решил на время обо всем этом забыть, чтобы в последние учебные месяцы хорошенько приналечь на занятия.
И вот однажды меня пригласили в гости в один дом, к знакомым моих родителей, где обычно музицировали и где я имел обыкновение бывать раз-другой в году. Это было такое же вечернее собрание, как и многие другие, разве что здесь присутствовало несколько оперных знаменитостей, я всех их знал в лицо. Был там и певец Муот, интересовавший меня больше остальных, – я впервые видел его так близко. Это был красивый темноволосый мужчина, высокий и статный, державшийся уверенно, с некоторыми замашками избалованного человека, нетрудно было заметить, что он пользуется успехом у женщин. Однако, если отвлечься от его манер, он не выглядел ни заносчивым, ни довольным, наоборот: в его взгляде и выражении лица было что-то пытливое и неудовлетворенное. Когда меня ему представили, он коротко и чопорно мне поклонился, но разговора не начал. Однако через некоторое время вдруг подошел ко мне и сказал:
– Ведь ваша фамилия Кун? Тогда я вас уже немножко знаю. Профессор С. показал мне ваши работы. Не сердитесь на него, нескромность у него не в обычае. Но я как раз зашел к нему, и, поскольку среди ваших вещей была песня, я с его разрешения ее посмотрел.
Я был удивлен и смущен.
– Зачем вы об этом говорите? – спросил я. – Профессору она, по-моему, не понравилась.
– Вас это огорчает? Ну, а мне ваша песня очень понравилась, я бы мог ее спеть, если бы у меня было сопровождение, о чем я хотел попросить вас.
– Вам понравилась песня? Да разве ее можно петь?
– Конечно, можно, правда, не во всяком концерте. Я бы хотел получить ее для себя, для домашнего употребления.
– Я перепишу ее для вас. Но зачем она вам?
– Затем, что она меня интересует. Это же настоящая музыка, ваша песня, да вы и сами это знаете!
Он посмотрел на меня – его манера смотреть на людей была для меня мучительна. Он глядел мне прямо в лицо, совершенно откровенно меня изучая, и глаза его были полны любопытства.
– Вы моложе, чем я думал. И должно быть, изведали уже много горя.
– Да, – ответил я, – но я не могу об этом говорить.
– И не надо, я ведь не собираюсь вас расспрашивать.
Его взгляд смущал меня, к тому же он был в некотором роде знаменитость, а я еще только студент, так что защищаться мог лишь слабо и робко, хотя его манера спрашивать мне совсем не понравилась. Надменным он не был, но как-то задевал мою стыдливость, а я едва способен был обороняться, потому что настоящей неприязни к нему не испытывал. У меня было такое чувство, что он несчастен и к людям подступает с невольной напористостью, словно хочет вырвать у них нечто способное его утешить.
Пытливый взгляд его темных глаз был столь же дерзким, сколь печальным, а лицо – много старше, чем он был на самом деле.
Немного погодя – его обращение ко мне все еще занимало мои мысли – я увидел, что он вежливо и весело болтает с одной из хозяйских дочерей, которая восторженно внимала ему и смотрела на него, как на чудо морское.
После моего несчастья я жил так одиноко, что эта встреча еще много дней отзывалась во мне и лишала меня покоя. Я был не настолько уверен в себе, чтобы не опасаться человека более сильного, и все же слишком одинок и зависим, чтобы не чувствовать себя польщенным сближением с ним. В конце концов я подумал, что он забыл про меня и про свой каприз в тот вечер. И вдруг он явился ко мне домой, приведя меня в замешательство.
Это было в один из декабрьских вечеров, когда уже совсем стемнело. Певец постучался и вошел так, как будто бы в его визите не было ничего необыкновенного, и сразу же, без всяких предисловий и любезностей, завел деловой разговор. Я должен был дать ему песню, а когда он увидел у меня в комнате взятое напрокат пианино, то пожелал немедля ее спеть. Пришлось мне сесть за инструмент и аккомпанировать ему, и так я впервые услышал, как звучит моя песня в хорошем исполнении. Она была печальна и невольно захватила меня, ибо он пел ее не как певец-профессионал, а тихо и словно бы про себя. Текст, который я в прошлом году прочел в одном журнале и списал, звучал так:
Коли фён задулИ с гор лавину погналПод смертный вой и гул,То Господь послал?Коль в юдоли сейСкитаться мой удел,Чужим среди людей,Господь так повелел?Зрит он, что изнемогЯ в муках жизнь влачить?Ах, умер Бог!Зачем мне жить?[1]Услышав, как он поет эту песню, я понял, что она ему понравилась.
Несколько минут мы молчали, потом я спросил, не может ли он указать мне мои ошибки и предложить исправления. Муот взглянул на меня своим неподвижным темным взглядом и покачал головой.
– Исправлять тут нечего, – сказал он. – Не знаю, хороша ли композиция, в этом я совсем ничего не смыслю. В песне есть переживание и есть душа, и коли сам я не пишу ни стихов, ни музыки, мне бывает приятно найти что-то такое, что кажется мне как бы своим и что я могу напевать про себя.
– Но текст мне не принадлежит, – вставил я.
– Да? Ну все равно, текст – дело второстепенное. Вы наверняка его прочувствовали, иначе не написали бы музыку.
Тогда я предложил ему переписанные ноты, которые приготовил еще несколько дней тому назад. Он взял эти листы, свернул трубочкой и сунул в карман пальто.
– Зайдите как-нибудь и вы ко мне, если пожелаете, – сказал он и подал мне руку. – Вы живете в одиночестве, я его нарушать не хочу. Однако время от времени все же приятно повидаться с порядочным человеком.
Он ушел, а его последние слова и улыбка запали мне в душу, они были созвучны той песне, которую он спел, и всему тому, что я до сего времени знал об этом человеке. И чем дольше я все это носил в себе и рассматривал, тем отчетливей оно становилось, и наконец я понял этого человека. Я понял, почему он ко мне пришел, почему моя песня ему понравилась, почему он почти невежливо на меня нажимал и показался мне одновременно и робким, и наглым. Он страдал, он носил в себе глубокую боль и изголодался от одиночества, как волк. Этот страдалец пробовал делать ставку на гордость и уединение, но не выдержал и теперь притаился, высматривая людей, ловя добрый взгляд и намек на понимание, и ради этого готов был унизиться. Так думал я в то время.
Мое отношение к Генриху Муоту было мне неясно. Я, правда, чувствовал его тоску и страдание, но боялся его, как человека более сильного и жестокого, который мог использовать меня и бросить. Я был еще слишком молод, у меня было еще слишком мало переживаний, чтобы я мог понять и оправдать то, как он словно бы обнажался и, казалось, не ведал стыдливости страдания. Но я видел и другое – страдал и был оставлен в одиночестве пылкий и искренний человек. Мне сами собой вспомнились слухи про Муота, достигшие моих ушей, невнятная студенческая болтовня, однако моя память вполне сохранила их тон и окраску. Рассказывали дикие истории про его похождения с женщинами, и, хотя подробностей я не помнил, мне мерещилось что-то кровавое, будто бы он был замешан в какую-то историю с убийством или самоубийством.
Когда я вскоре после этого преодолел свою робость и расспросил одного товарища, дело оказалось безобиднее, чем оно мне представлялось. Как рассказывали, у Муота была связь с некой молодой дамой из высшего общества, правда, два года тому назад она лишила себя жизни, однако на причастность певца к этой истории люди позволяли себе лишь намекать, не более того. Наверно, моя собственная фантазия, возбужденная встречей с этим своеобразным и не вполне приятным мне человеком, создала вокруг него это облако страха. Однако, так или иначе, с этой своей возлюбленной он наверняка пережил что-то недоброе.
Пойти к нему у меня не хватало мужества. Правда, я отдавал себе отчет в том, что Генрих Муот – страдающий, а возможно, и отчаявшийся человек, который хватается за меня и жаждет моего общества, и порой мне казалось, я должен откликнуться на этот зов и буду подлецом, если этого не сделаю.
И все-таки я не шел к нему, меня удерживало другое чувство. Я не мог дать Муоту того, что он у меня искал, я был совсем другим, не похожим на него человеком, и хотя я тоже во многих отношениях оставался одинок и не вполне понят людьми, отделенный от большинства своей судьбой и склонностями, я все же не хотел привлекать к этому внимание. Пусть певец был демоническим человеком, зато я – нет, внутреннее чувство удерживало меня от всего броского и необыкновенного. Резкая жестикуляция Муота вызывала у меня неприязнь и протест, он был человек театра и, казалось мне, любитель приключений, возможно, предназначенный к тому, чтобы прожить жизнь трагическую и весьма заметную. Я же, напротив, хотел оставаться в тиши, жесты и смелые слова были мне не к лицу, я был предназначен для самоотречения. Так я терзался раздумьями, ища успокоения. Ко мне в дверь постучался человек, который вызывал у меня жалость и которого я, по справедливости, наверное, должен был считать выше себя, но я оберегал свой покой и не хотел его впускать. Я ретиво взялся за работу, но не мог отделаться от мучительного представления, будто позади меня стоит некто и пытается меня схватить.
Поскольку я не приходил, Муот опять взял дело в свои руки. Я получил от него письмецо, оно было написано крупным гордым почерком, и в нем говорилось:
«Милостивый государь! Одиннадцатого января я имею обыкновение праздновать свой день рождения в компании друзей. Вы позволите мне пригласить и вас? Было бы прекрасно, если бы мы могли по этому случаю услышать вашу скрипичную сонату. Что вы об этом думаете? Есть ли у вас коллега, с которым вы могли бы ее сыграть, или я должен кого-нибудь к вам прислать? Штефан Кранцль был бы не прочь. Вы доставили бы этим радость вашему Генриху Муоту».
Этого я не ожидал. Мою музыку, еще никому не ведомую, мне предстояло исполнить перед знатоками, и я должен был играть в паре с Кранцлем! Пристыженный и благодарный, я согласился, и через два дня Кранцль попросил меня прислать ему ноты. А еще через несколько дней он пригласил меня к себе. Известный скрипач был еще молод, но уже по внешним признакам – чрезвычайная худоба и бледность – в нем угадывался тип виртуоза.
– Так, – сказал он сразу, как я вошел. – Значит, вы приятель Муота. Что ж, тогда давайте сразу и начнем. Если мы сосредоточимся, то с двух-трех раз дело у нас пойдет.
Сказав это, он поставил мне стул, положил передо мной партию второй скрипки, показал такт и заиграл своим легким, чувствительным штрихом, так что рядом с ним я совершенно сник.
– Только не робеть! – крикнул он мне, не прерывая игры, и мы проиграли все до конца.
– Так, получается! – сказал он. – Жаль, что у вас нет скрипки получше. Но ничего. Allegro мы пустим теперь чуточку быстрее, чтобы его не приняли за похоронный марш. Начали!
И, доверившись виртуозу, я стал играть в дуэте с ним мою собственную пьесу, моя простая скрипка звучала вместе с его драгоценной, словно так и должно быть, и я был удивлен, обнаружив, что этот изысканного вида господин столь непринужден, даже наивен. Когда я перестал смущаться и немного набрался храбрости, то нерешительно попросил его высказать свое суждение о моей пьесе.
– Об этом вам надо бы спросить кого-нибудь другого, сударь мой, я мало что в этом понимаю. Она действительно чуточку необычна, но как раз это людям и нравится. Если соната нравится Муоту, вы вправе уже кое-что возомнить о себе – он ведь глотает не все подряд.
Он дал мне несколько советов касательно игры и показал некоторые места, где были необходимы исправления. Затем мы уговорились о следующей репетиции назавтра, и я ушел.
Для меня было утешением обнаружить в этом скрипаче такого простого и славного человека. Если он принадлежал к кругу друзей Муота, то и я с грехом пополам мог бы там удержаться. Правда, он был законченный артист, а я – начинающий, без больших видов на будущее. Только мне было жаль, что никто не хочет высказаться прямо о моей работе. Самое суровое суждение было бы мне приятнее, чем эти добродушные фразы, которые ни о чем не говорили. В те дни стоял страшный холод, едва удавалось обогреть комнату. Мои товарищи гоняли на коньках, близилась годовщина нашей прогулки с Лидди. Для меня это было малоприятное время, и я радовался предстоящему вечеру у Муота, не возлагая на него особых надежд, поскольку давно уже не видел друзей, не ведал веселья. В ночь на одиннадцатое января я проснулся от какого-то необычного шума и прямо-таки пугающего тепла. Я встал и подошел к окну, удивляясь, что холода больше нет. Внезапно налетел южный ветер, с силой пригнав влажный, тепловатый воздух, в вышине буря гнала большие, тяжелые гряды облаков, и сквозь узкие просветы между ними сияли удивительно крупные, ослепительные звезды. На крышах виднелись уже темные пятна, а утром, когда я вышел из дому, весь снег стаял. Улицы и лица людей выглядели странно изменившимися, и надо всем веяло преждевременное дыхание весны.
В те дни я расхаживал в состоянии лихорадочного возбуждения, отчасти из-за южного ветра и хмельного воздуха, отчасти из-за сильного беспокойства в ожидании предстоящего вечера. Я часто брал свою сонату, играл какие-то куски оттуда и снова ее отбрасывал. То я находил ее действительно прекрасной и испытывал горделивую радость, то она вдруг казалась мне мелкой, разорванной и неясной. Этого возбуждения и тревоги я бы долго не выдержал. В конце концов я уже просто не знал, радуюсь я близящемуся вечеру или боюсь его.
Он тем не менее наступил. Я надел сюртук, взял футляр со скрипкой и отправился к Муоту домой. С трудом отыскал я в темноте в отдаленном предместье, на незнакомой и безлюдной улице, нужный мне дом, он стоял один посреди большого сада, который выглядел запущенным и неухоженным. Едва я приоткрыл незапертую калитку, на меня набросилась большая собака, которую отозвали свистом из окна, и она, ворча, сопровождала меня до входа в дом, откуда навстречу мне вышла низенькая пожилая женщина с боязливыми глазами, приняла от меня пальто и проводила дальше по ярко освещенному коридору.
Скрипач Кранцль жил в окружении очень изысканных вещей, и я ожидал, что и у Муота, которого считали богатым, обстановка также окажется довольно-таки блестящей. Я и впрямь увидел большие, просторные комнаты, слишком большие для холостяка, мало бывающего дома, но все остальное там было обыкновенным или, в сущности, не обыкновенным, а случайным и беспорядочным. Мебель была частью старая и потому казалась принадлежностью этого дома, в то же время тут и там стояли новые вещи, купленные без разбору и непродуманно расставленные. Блестящим было только освещение. Горел не газ, а множество белых свечей в простых и красивых оловянных подсвечниках, в гостиной же висело нечто вроде люстры – незамысловатое латунное кольцо, утыканное свечами. Главным же здесь был очень красивый рояль. В комнате, куда меня провели, стояла группа мужчин, занятых разговором. Я поставил футляр и поздоровался, некоторые кивнули мне и снова обратились к собеседникам, а я остался стоять в стороне. Но вот ко мне подошел Кранцль – он был в этой группе, но не сразу меня заметил, – подал мне руку, представил своим знакомым и сказал:
– Это наш новый скрипач. А скрипку вы принесли? – Потом крикнул в соседнюю комнату: – Э-э, Муот, этот, с сонатой, уже здесь.
Муот сразу вошел, очень сердечно со мной поздоровался и повел в комнату с роялем, где все выглядело празднично и уютно, и красивая женщина в белом платье налила мне рюмку шерри. Это была артистка придворного театра, впрочем, других коллег хозяина дома я, к моему удивлению, среди гостей не увидел, к тому же эта артистка была здесь единственной дамой.
Когда я быстро осушил свою рюмку, наполовину от смущения, наполовину от инстинктивной потребности согреться после хождения по ночной сырости, она налила мне еще одну, не считаясь с моим протестом.
– Да выпейте же, вреда в этом нет. Еду подадут только после музыки. Вы ведь принесли с собой скрипку и сонату?
Я ответил ей сухо, чувствуя себя скованным, к тому же я не знал, в каких она отношениях с Муотом. Она как будто бы играла роль хозяйки, а вообще была усладой для глаз, впрочем, и в дальнейшем я видел моего нового друга всегда только в обществе безупречно красивых женщин.
Тем временем все собрались в музыкальной гостиной, Муот поставил пульт, гости сели, и скоро мы с Кранцлем были уже во власти музыки. Я играл, ничего не чувствуя, мое произведение казалось мне жалким, и лишь мимолетно, как зарницы, у меня нет-нет да и вспыхивало на секунды сознание, что я играю здесь с Кранцлем, и что вот он – долгожданный великий вечер, и что тут сидит небольшое общество знатоков и избалованных музыкантов, перед которыми мы исполняем мою сонату. Только дойдя до рондо, я стал слышать, как великолепно играет Кранцль, в то же время сам я настолько был скован и находился как бы вне музыки, что непрерывно думал о чем-то постороннем, и мне вдруг пришло в голову, что я еще даже не поздравил Муота с днем рождения.
Но вот соната была окончена, красивая дама поднялась, подала руку мне и Кранцлю и открыла дверь в комнату поменьше, где нас ждал накрытый стол, уставленный цветами и бутылками.
– Наконец-то! – воскликнул один из гостей. – Я чуть не умер с голоду.
– Вы просто чудовище, – сказала дама. – Что подумает композитор?
– Какой композитор? Разве он здесь?
– Вот он сидит. – Она указала на меня.
– Вам надо было раньше мне об этом сказать. Впрочем, музыка была очень хорошая. Однако когда хочется есть…
Мы принялись за еду, и когда с супом было покончено и белое вино разлито по бокалам, Кранцль произнес тост в честь хозяина дома и дня его рождения. Муот поднялся сразу после того, как все чокнулись:
– Дорогой Кранцль, если ты думал, что я сейчас произнесу речь, посвященную тебе, то ты ошибся. Мы вообще больше не будем произносить речей, я вас об этом прошу. Единственную, какая, возможно, еще нужна, я беру на себя. Я благодарю нашего юного друга за его сонату, которую нахожу замечательной. Быть может, наш Кранцль со временем будет рад получить для исполнения его вещи, что ему вполне подобает, ибо он уловил суть этой сонаты. Я пью за композитора и за добрую дружбу с ним.
Все стали чокаться, смеяться, поддразнивать меня, и вскоре веселое застолье, подогретое хорошим вином, было в разгаре, и я с облегчением ему отдался. Давно уже не знал я подобных удовольствий и такого чувства легкости – в сущности, целый год. Теперь же смех и вино, звон бокалов, нестройный хор голосов и вид красивой веселой женщины отворили мне потерянную дверь к радости, и я незаметно соскользнул в непринужденную веселость легких, оживленных разговоров и смеющихся лиц.
Вскоре все встали из-за стола и вернулись в музыкальную гостиную, где веселая компания разбрелась по углам с вином и сигаретами. Некий тихий господин, который мало говорил и имени которого я не знал, подошел ко мне и сказал несколько добрых слов о моей сонате, о которой я совсем забыл. Потом артистка втянула меня в разговор, и к нам подсел Муот. Мы снова выпили за крепкую дружбу, и вдруг он сказал, сверкая своими мрачно смеющимися глазами:
– Я теперь знаю вашу историю. – И, обратясь к красавице: – Он переломал себе кости, съехав с горы на санях в угоду хорошенькой девушке. – И опять ко мне: – Это прекрасно. В момент, когда любовь в расцвете и на ней еще нет ни пятнышка, сломя голову с горы вниз! За это можно отдать здоровую ногу. – Смеясь, он осушил свой бокал, но взгляд у него опять сделался темным и пытливым, когда он спросил: – А как вы пришли к композиторству?
Я рассказал, как складывались у меня отношения с музыкой, начав с мальчишеских лет, рассказал и о прошлом лете, о моем бегстве в горы, о песне и о сонате.
– Да, – медленно произнес он. – Но почему это приносит вам радость? Нельзя ведь излить страдание на бумагу и тем от него избавиться.
– Я и не собираюсь этого делать. Ни от чего не хотел бы я избавляться, кроме как от слабости и скованности. Я хотел бы ощущать, что скорбь и радость проистекают из одного и того же источника и суть движения одной и той же силы, такты одной и той же музыки и каждое из них – прекрасно и необходимо.
– Дружище! – резко вскричал он. – Вы же потеряли ногу! Неужели за музыкой вы способны об этом забыть?
– Нет, зачем? Ведь изменить я уже ничего не могу.
– И это не приводит вас в отчаяние?
– Это меня не радует, можете мне поверить, но, надеюсь, в отчаяние не приведет тоже.
– Тогда вы счастливец. Я, правда, не отдал бы ногу за подобное счастье. Значит, так получилось у вас с музыкой? Смотри, Марион, вот оно – волшебство искусства, о котором так много пишут в книгах.
Я запальчиво крикнул ему:
– Перестаньте так говорить! Вы сами ведь тоже поете не только ради гонорара, а получаете от этого радость и утешение! Зачем же вы насмехаетесь надо мной и над собой тоже? По-моему, это жестоко.
– Тише, тише, – вмешалась Марион, – а то он рассердится.
Муот взглянул на меня.
– Не рассержусь. Он ведь совершенно прав. Но с ногой у вас дело, наверное, не так уж скверно, иначе писание музыки не могло бы вас утешить. Вы человек довольный, с такими что ни случись, они все равно остаются довольными. Но я никогда в это не верил.
И он вскочил разъяренный:
– Да это и неправда! Вы написали песню о лавине, в ней нет утешения и довольства, а есть отчаяние. Послушайте!
Он очутился вдруг у рояля, в комнате все стихло. Он начал играть, сбился и, опустив вступление, запел песню. Сейчас он пел ее иначе, чем тогда, у меня дома, и было ясно, что с тех пор он к ней не раз возвращался. И пел он сейчас в полный голос – у него был лирический баритон, знакомый мне по сцене, его сила и льющаяся потоком страсть заставляли забыть о необъяснимой жесткости его певческой манеры.
– Композитор написал это, как он уверяет, просто для развлечения, отчаяние ему неведомо и он бесконечно доволен своей участью! – воскликнул он и указал на меня.
На глаза мои навернулись слезы стыда и гнева, все закачалось передо мной, как в тумане, и я встал, чтобы положить этому конец и уйти.
Вдруг тонкая, но крепкая рука остановила меня, вдавила обратно в кресло и так тихо и нежно погладила по голове, что меня окатили ласковые, горячие волны – я закрыл глаза и проглотил слезы. Подняв глаза опять, я увидел, что передо мной стоит Генрих Муот, остальные, по-видимому, не обратили внимания на мой порыв и на всю эту сцену вообще, они пили вино и смеялись наперебой.
– Какой вы ребенок! – тихо произнес Муот. – Если человек написал такие песни, значит, он уже перешагнул через нечто подобное. Но я очень сожалею. Вот понравится тебе какой-то человек, но стоит немного побыть с ним, как заводишь ссору.
– Все хорошо, – смущенно сказал я. – Но сейчас я хотел бы пойти домой, лучшее, что могло быть сегодня, уже позади.
– Ладно, не стану вас неволить. Мы тут, я думаю, еще напьемся. Будьте тогда столь добры и проводите Марион домой, хорошо? Она живет в Центре, на Грабене, крюк вам делать не придется.
Красивая женщина секунду испытующе смотрела на него.
– Да, вы согласны? – сказала она затем, обращаясь ко мне, и я встал. Мы попрощались только с Муотом, в прихожей нам подал пальто наемный слуга, потом появилась и заспанная старушка, она светила нам большим фонарем, пока мы шли через сад к калитке. Ветер был все еще мягкий и тепловатый, он гнал длинные вереницы черных туч и копошился в оголенных кронах деревьев.

