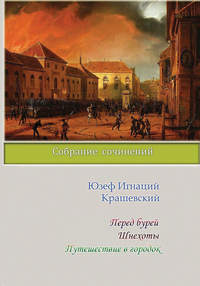
Перед бурей. Шнехоты. Путешествие в городок (сборник)
Ты знаешь отца? Что это за человек? – добавил Божецкий. – Какой-то советник… что же и кому советует? В комиссариате…
У Каликста на устах уже было слово, но задержал его.
– Не знаю о нём ничего, не знаю его, – ответил он, подумав, – совесть велит мне сказать тебе, что – правда или нет – люди его избегают.
Божецкий скривился и закусил губы.
– Я о том только вчера узнал, – кончил Каликст, – потому что дома считается купцом, спекулянтом.
– Одно не мешает другому, – отозвался Божецкий. – Дай мне трубку, если есть, и пойду, потому что у меня имеются и другие больные.
– Состояние панны опасное? – спросил Каликст.
– Разве я знаю, – вздохнул доктор. – С нервами, как с безумцами, никогда нельзя знать, что нас встретит, может быть, нет, и, может статься, что самое ужасное. Мы ещё до этого не дошли, чтобы их дороги наперёд обозначить. Согласно всякому вероятию, если причина уступит, молодость победит, здоровье вернётся. Но молодость также имеет в себе то, что сильней принимает впечатления. Ведь ты всё же не влюбился в панну? – смеясь, спросил Божецкий.
– Нет, – ответил Каликст, – хотя признаюсь тебе, что она – опасна.
Божецкий встал, зевая.
С костёла Св. Креста долетали голоса колоколов, город двигался, экипажи гремели, улицы заново начинали жить. По Новому Свету, уже куда-то откомандированная, шла в молчании конница, с другой стороны маршировала пехота, где-то вдалеке отзывался бубен.
Бреннер сидел у кровати дочери, Малуская пошла молиться, слуги были внизу.
Вдруг Юлия задвигалась, поднялась, огляделась вокруг и, видя перед собой отца, уставила в него глаза. Но не было это то прежнее её выражение, с каким смотрела на родителя. Казалось, поглядывает на него с тревогой, с недоумением, с упрёком. Бреннер, невольно смешанный, опустил глаза. Взгляд этот болезненно его прошил. Он наклонился к дочке, которая немного отодвинулась от него. Ещё раз обвела взглядом покой и тихо отозвалась дрожащим голосом:
– Отец мой, несчастный… я знаю – я всё знаю…
Тут она замолкла, потому что плачь прервал её речь и приглушил голос.
– Ребёнку не годиться ни осуждать родителя, ни делать ему упрёков, но, отец мой, отец, почему ты меня так воспитал, что должна содрогаться от того, что ты делаешь? А! Нужно было дать меня туда, где бы у меня всякое чувство отняли… и стыд и…
Она не докончила, её голова упала на колени, закрыла глаза руками и горько плакала.
Лицо Бреннера во время, когда её слушал, так менялось, пожалуй, как человека, которого ведут на казнь, который хочет показать мужество, а падает от тревоги и боли, поднимается и собой не владеет, мечется, бессильный, и только пробуждает сострадание. Попеременно бледный, синий, жёлтый красный, весь дрожал, пот выступил на его лбу. Несколько раз наклонялся к дочке и отступал. Ему не хватало голоса, в запёкшихся устах пересохло.
– Юлия, – сказал он, – Юлия, успокойся, прошу тебя. Не годится меня судить, ты сама сказала, не суди меня, не убивай… имей жалость к себе и ко мне.
Он не мог говорить больше.
Юлия подняла заплаканное лицо, но как бы силой воли успокоенное.
– Отец мой, – произнесла она, – я тут остаться не могу… тут каждый кусок хлеба меня задавил бы – я должна уйти отсюда… В монастырь, на службу, в свет, не знаю – хотя бы на погибель, но я тут остаться не могу…
Бреннер заломил руки.
– Дитя моё, – крикнул он, – ты, пожалуй, хочешь убить меня… Я для тебя работал, я для тебя продался… я себе в голову выстрелю… не переживу этого…
Говоря это, он положил голову на её кровать и сам начал плакать.
Услышав его рыдания, Юлия схватила за голову и начала целовать, точно уже простила его. Оба молчали. Бреннер поднялся с дикой энергией.
– Слушай, – сказал он, – даю тебе слово, как люблю тебя, на всё, что у человека свято, если я какое зло учинил, стократно его исправлю и отслужу. Погибну – но очищу себя. Не покидай меня, не губи, не убивай.
Тихим шёпотом, приблизившись к Юлии, Бреннер закончил с ней разговор. Дочка успокоилась, плакала ещё, но лежала на подушках, не показывая признаков волнения. Бреннер повторял над ней: «Погибну, но очищу себя».
Что-то припомнив в эти минуты, он побежал в кабинет, принёс бумаги, начал показывать их Юлии, шептать снова. Казалось, словно хотел доказать, что исполнял свои обязанности таким образом, что скорее помогал, чем вредил.
Поверила ли ему панна Юлия, действительно ли убедилась, что не так был виновен, как думала, – верно то, что снова тихим долгим шёпотом закончили разговор и Бреннер, попрощавшись с ней, один спешно вышел из дома.
Юлия только теперь, после выяснения, уснула, а тётя Малуская, войдя на цыпочках, нашла её уже объятую глубоким сном.
Во всём доме наказали молчание. Бреннер тем временем бежал боковыми улочками с бумагами за сюртуком во дворец Крассовских, в котором жил генерал Левицкий[11]. Несмотря на успокоение дочки и пережитую с ней тяжёлую минуту, старик едва мог идти, так ещё чувуствовал себя взволнованным, ослабленным. Не мог, видно, избавиться от опасности. С тыльной стороны, качаясь как пьяный, он попал в личную канцелярию генерала.
Там в эти минуты никого не было, кроме того славного пьяницы Харламповича, который обычно переписывал рапорты великому князю. Поскольку уже несколько дней Харлампович был постоянно пьяным так, что переписывать не мог, в этот день был привязан за обе ноги толстой верёвкой к столику. Верёвка же была так искусно завязана на какие-то узлы, что, если бы он её развязал, не сумел бы потом скрутить подобным образом.
Харлампович, бледный, перепитый, смердящий водкой, с икотой сидел над бумагой и со злостью, но с опытом скорее отличного рисовальщика, чем каллиграфа, с лежащего перед ним черновика копировал рапорт.
Он поднял голову, увидев Бреннера, и, ничего не говоря, показал ему только язык, опустил глаза – писал дальше.
Рядом был покой генерала, который как раз собирался в Бельведер. Даже для командиров и фаворитов великого князя поездка в Бельведер была делом великого значения. Даже генералу не прощал великий князь незастёгнутой пуговицы, пришитой на отворот, малейшей нерегулярности в костюме, самой незначительной эмансипации против формы. Каждый, едучи в Бельведер, хотя бы был Левицким, Жандром, Крутой, Аксамитовским и даже Блюмером, должен был хорошо обеспечить себя сам, прежде чем отваживался вставать в приёмной князя.
Когда Бреннер постучал, генерал закончил одеваться; на канапе сидел как раз Блюмер, долженствующий его сопровождать, тот самый послушный из прислужников, которого из-за его эффективности и точности звали «Кухенрейтаром великого князя». Как пистолеты Кухенрейтара, славящиеся меткостью, так Блюмер был известен безжалостным исполнением приказов.
– А, это ты! – сказал по-русски Левицкий. – Ну что?
Бреннер начал заикаться. Стоял у порога.
– Ясно вельможный генерал, – начал он дрожащим голосом, – у меня в доме несчастье, моя дочка смертельно заболела, прошу хоть на день увольнение.
– Что? Что? – крикнул Левицкий. – Что ты, сбесился что ли? Это не может быть! Лжёшь. Я вчера видел твою дочку, красавицу, здоровую, что с ней может быть?
– Получила ночью судороги, – воскликнул Бреннер.
Разгневанный Левицкий пожал плечами.
– Тогда пошли ей доктора, – воскликнул он, – девка здорова, красива… ей бы молодого кирасира откомандировать, сразу бы выздоровела.
Слыша эти циничные шутки, над которыми Блюмер начал смеяться, лицо Бреннера пожелтело.
– Ей-богу! – добавил Левицкий. – Вчера я первый раз её видел, но девушка – чудо! Откуда же ей болеть?
Бреннер молчал, Блюмер с любопытством к нему присматривался.
– Что мне там болезнь, – добросил Левицкий, – служба идёт прежде всего. Тебя никто не заменит. Я тебе буду искать других? Где? Когда? Времени нет, а для таких вещей нужна ловкость, как твоя, понимаешь? А затем – пошёл прочь и за работу.
Бреннер хотел что-то сказать.
– Э! Какая бестия упёртая! – крикнул Левицкий, топая ногой. – Пошёл вон, говорю, а нет… то…
И указал на дверь.
В те минуты, когда Бреннер уже выходил, в другую дверь постучали, и Левицкий, изменив голос, отличным акцентом, со сладостью и салонным обаянием сказал входившему:
– Charme de vous voir; Monsieur le Comte, a quoi suis – je redevable de Vhonneur de votre presence?[12]
Эта внезапная перемена тона из грубиянского на сладкий всегда относилась к характеристике высоко поставленных особ, которые были вынуждены десять раз в день жестощайше ругать и принимать салонные формы и культуру.
Прибывшим был, по-видимому, генерал граф Стась Потоцкий, позже несчастная и невинная жертва первой минуты горячки.
Бреннер вышел бледный и смешанный, стоял ещё у порога с опущенной головой, а Харлампович имел возможность повторно ему язык показать. Не видел его вовсе Бреннер, волочась медленно назад из канцелярии и выходя из дворца.
Отойдя от него на несколько шагов, он повторно остановился, точно задумался. Не было способа освободиться от обязанностей. Беспокойство звало его к постели больной дочки, неволя тянула туда, где должен был служить самым постыдным образом тем, кто оплачивал его осквернение. Суровость и грубость генерала Левицкого, которые, может, раньше и где-нибудь в другом месте были бы после него, не коснувшись его, стекали, падая на больную душу, добыли из неё гнев и желание мести.
Покраснело его лицо.
Он почувствовал почти ярость к тем, что его так унизили, им пренебрегли и не таились даже с презрением. Он со всей силой сжал в руке трость, которую держал, и быстрым шагом пошёл, поглядев на часы, к Бернардинцам.
Огляделся, однако, сначала вокруг, и с ловкостью издавна опытного в ужимках, начал прижиматься, кружа, скрываясь при стенах, пока, как ему казалось, незамеченный, не дошёл до монастыря. Снова посмотрел на часы, а, так как келья, к которой он намеревался идти, была ему точно известна, не спрашивая, прямо пошёл к ней и постучал в дверь.
Когда после ответа изнутри Бреннер вошёл, застал огромного сонного отца, который, сбросив капюшон, как раз после умывания лица вытирался полотенцем, стоя в центре комнаты. Увидев Бреннера, он словно глазам не верил.
– Ей-богу! Или Бреннер, или призрак! А ты тут что делаешь?!
Прибывший стоял грустно, не глядя в глаза.
– Брат, а скорее отец, – отозвался он, – потому что, хоть двоюродный для меня, но облачение тебя отцом называть велит. Я тут много лет живу.
– Тут? А только сейчас соблаговолил узнать о бедном бернардинце? Гм? Что же? Или не знал, что я здесь?
– Я знал, – отпарировал Бреннер, – но дай мне сесть, потому что падаю.
Отец Порфирий указал на стульчик. Присматривался к Бреннеру с таким любопытством, беспокойно, хмуро, что о прошлых дружеских отношениях между двоюродными братьями догадаться было трудно.
– Ну, раз уж ко мне пришёл, говори, – отозвался тучный хозяин, заканчивая вытираться и приводя в порядок место на своём твёрдом ложе. – Что тебя сюда привело?
– Беда! – произнёс Бреннер.
– Axa! Аха! – рассмеялся ксендз. – Пришла коза до воза! Прошу! Беда! Но это, помоги мне Господи Боже, что-то особенное, чтобы такой человек, как ты… с бедой встретился. Ну я – это совсем иное, но ты, пане Пётр, должен был всегда ходить такими дорогами, что скорей мог наткнуться на то, что у вас называется счастьем, чем на беду. Это уже что-то особенное, говори.
– Почти с исповедью к вам пришёл, – говорил Бреннер грустно.
– Слушай, если с исповедью, то пойдём в конфессионалий, я тебя тут так, оборви, полей, исповедовать не буду. А ежели тебе, дорогой, кажется, что по старому знакомству и крови тебе так легко отпущу грехи, – то жестоко ошибаешься.
– Мой дорогой отец, – отозвался Бреннер нетерпеливо, – на исповедь будет время, хочу твоего совета.
– Моего совета? – бесцеремонно прервал отец Порфирий. – Мне кажется, что и эта пуля попала в забор, а что я могу тебе иного посоветовать, кроме того, чтобы ты был честным человеком и добрым христианином? А сумеешь ли ты…
– Ну, не шути, – воскликнул Бреннер, – сейчас не время. Слушай, я не отрицаю, что был шельмой и есть даже, но у меня один ребёнок, которого люблю, моя подлость ребёнка убивает. Хочу стать честным…
В речи этого человека было что-то такое убеждающее, такое вдохновлённое правдой, что бернардинец, который слушал поначалу с насмешливой миной, стал более серьёзным и замолк. Молчание продолжалось минуту – Бреннер ждал, бернардинец раздумывал.
– Что же ты? Женился? Когда? Дочку имеешь или сына? – спросил он.
– Я был женат, жена скоро умерла, у меня дочка, ангел – люблю её больше жизни. Со вчерашнего дня заболела от отчаяния, узнав, кому и как я служу, – пусть лихо их возьмёт… ребёнок мне дороже всего. Брошу, выеду, убегу…
– Разве тебя твои дорогие русские отпустят так легко, – ответил ксендз. – Мой дорогой, грех тянет покаяние за собой; не думай, чтобы со злом так легко было расстаться, как кажется. Смола прилипает к человеку. И Твардовский, о котором есть легенда, что продал душу дьяволу, пожалел потом об этом; ни из когтей греха, ни из дьявольских и et cetera нелегко выбраться.
Бреннер схватился за голову.
– О, несчастная моя доля! – воскликнул он. – Если девушку потеряю, сам у себя жизнь отбиру. На что она мне? Для чего? Для неё жил…
Он стоял так, бернардинец слушал.
– Чем поможет плакать, – отозвался он, – или что я могу посоветовать? Я? Монах, сидящий в келье. У тебя в голове закружилось!
– Нет, – сказал Бреннер, – ты – это не может быть, ты должен знаться с патриотами, ты всегда был пылким, невозможно, чтобы ты с молодёжью отношений не имел.
Бернардинец, ходя по келье, начал петь:
«Привет, утренний рассвет!..»И кивал головой. Встал потом перед Бреннером и, открыв табакерку, угостил его табаком.
– Считаешь меня за ужасного просточка, брат, – сказал он, – кормя такими анекдотами о раскаянии, исправлении, о дочке, чтобы мне мух из носа тянуть![13] Но у меня и в монастыре мух нет, тут ничего не вытянешь. Разве бернардинцы для того предназначены, чтобы в патриотизм играть! Наше дело – помыть голову грешнику, святую мессачку отправить, окрестить, ребёнка катахизису научить, но – и я тебе признаюсь, если войнушка, на коне с распятием перед полком… ей же! – хоть бы на русского!
Тут он ударил по устам.
– О! Простите, само вырвалось! Но, душа моя, тёмными дорогами, где человек только шишек себе набить может, мы не ходим… На это есть иные…
– Не веришь мне! – воскликнул Бреннер.
– Уж думай, как тебе нравится – но тут у нас ничего не достигнешь. Монастыря и совести можешь сделать ревизию – нет ничего запрещённого. Дай мне святой покой.
– Бог с тобой, пане брат, – вставая со стула, сказал Бреннер. – Я хотел тебе только одно сказать, – тут он понизил голос, – сегодня за Прагой в колонии пир для Каминского изо Львова… надзор за ним поверили мне – пусть будут спокойны, скажи им, пусть будут спокойны, я заткну уши.
Отец Порфирий долго смотрел, заложил руки назад, от стоп до головы мерил двоюродного брата, фыркнул, пожал плечами и, ничего не говоря, дал ему табаку во второй раз.
Смешанный этим приёмом, Бреннер бросился целовать его руку, пожал её, а когда поднял голову, отец Порфирий увидел, что его глаза были полны слёз. В эти минуты физиономия бернардинца изменилась и он сказал тихо:
– Оставь в покое слёзы, потому что не баба… пойдём-ка со мной.
И они вместе вошли в келью.
* * *Не без причины кружок литераторов и послов, желающих почтить прибывшего в Варшаву Каминского, автора «Краковской свадьбы», коий умел думать и писать, когда другие думать не смели, а писать не умели, – выбрали отдельный домик за Прагой, в колонии Винена. Хозяевам того пира, который должен был сплочить конгрессовиков, литвинов, галициан и украинцев, казалось, что здесь будут свободней, чем в городе и публичном помещении, где даже служащих в ресторации было нужно остерегаться, потому что и те шли завербованные в фаланги Юргашки и Макрота. Подобрали верных слуг, в домик не имел и не мог иметь доступ никто из незнакомых, поэтому слов так уж можно было не остерегаться. Впрочем, собрание вовсе политической окраски не имело, было это просто побратание духом и минута невинного разговора, в котором бдительное око ничего бы подозрительного не открыло – а однако… однако сам факт той симпатии к разделённым границами братьям, само признание единства, одна взаимная любовь в глазах великого князя была преступной. Всё в то время было преступным и подозрительным: весёлость, остроумие, летящая смелей мысль, немногим более открытое сердце, тоска, грусть, задумчивость, желание учиться… всё. Всё скрывало в себе, согласно принятой теории, какой-то грозный зародыш для будущего. Весёлость выдавала надежды, а каждая надежда была вещью запрещённой; остроумие могло укусить, мысль могла достать слишком далеко, сердце могло слишком далеко увести, тоска велела догадываться о жалости по прошлому, задумчивость могла обозначать поиск средств для его восстановления, наука делала сильным. Одним словом, не было ни состояния духа, ни умысла, который бы себе не могли объяснить с плохой стороны те, что вечно чего-то боялись, как говорил позднее Жевуский.
Поэтому предпочитали скрыться с глаз подозреваемых, чтобы весёлость и остроумие могли вылиться смелей.
С другой стороны Любовицкий и Юргашко равно о прибытии Каминского, как о намерении принять его в Варшаве, уже имели известие. Помешать этому не было хорошего повода, хотя некоторые особы, позванные на обед, на всё общество бросали тень.
Левицкий, который тоже знал об обеде, откомандировал Бреннера. На этот раз был это для пирующих счастливый выбор, потому что Бреннер ради любви к дочке готов был служить совсем другим интересам.
Несколько дней назад он, быть может, выискивал бы какую-то вину, чего-то подозрительного, теперь думал только о том, как защитить тех людей и начать меняться. Что делалось в душе этого человека – описать трудно.
Там, где в сердце осталась хотя бы маленькая искорка любви, всегда через неё ещё есть и прийти может спасение. Та любовь к ребёнку вела к исправлению. Боялся потерять ту, что его одна держала на свете.
Не в состояния отказаться от ассистирования обеда, Бреннер подумал, что, быть может, лучше будет, если он там окажется, нежели кто иной, более опасный, вместо него. Способ внедрения был ему заранее подан. Камердинер референдария Хлудовского рекомендовал его в столовую. Бреннер при буфете и серебре должен был подслушивать разговор. Кто бы его видел несколькими часами назад в его обычном облике и смотрел теперь в колонии, не мог бы его, наверное, узнать. К большим и главным качествам каждого такого агента, каким был Бреннер, надлежало умело преобразовываться по несколько раз в день. Дома не мог совершить этой метаморфозы, но в Краковском отеле, где имел комнатку на втором этаже, иногда по два и три раза перевоплощался. Тогдашний хозяин, сам состоящий в той же службе, обеспечивал ему незаметный вход и выход. В этот день Бреннер имел чёрные усы, огромные, приклеивание которых было почти невидимо, держался так, что казался более высоким, лицо было румяным, глаза его смотрели иначе, словом, был это кто-то совсем новый, потому что даже движения и фигура приобрели иной характер. Был младше и ловчее.
Общество, которое собралось в колонии, было очень многочисленным. Среди него и уже известные люди, среди них Лелевел, которого молодёжь считала будущим руководителем революции, – многих из тех, что позже выросли в вождей духа и певцов народа можно было увидеть.
Кто бы будущего поэта «Духа в степи» и «Наисвятейшей семьи» угадал в молодом, полном жизни, начинающем её только, мечтающем ещё и всей грудью дышащем Украинце, который был одной любовью и песней, одним вздохом к идеалам; в черноволосом Стефане, взгляд которого был таким проникновенным, автора «Вечеров пилигрима», а в бледном, сварливом, остроумном, смелом Михале – автора «Литературы и критики». Были они там все и много других, полных надежды. В хорошем настроении и серьёзно начался пир, сначала рассчитывая слова и оглядываясь немного на полуофициальные фигуры и на такие немного долгоязычные, как редактор «Почтового дилижанса», который также сюда втиснулся, – но с жарким и после рюмок все начали забываться! Говорили обо всём, ни одно двузначное словцо проскользнуло, ни один злобный анекдот обежал вокруг.
Особенная вещь! Под натиском того деспотизма, что почти не давал вздохнуть, под небом, на вид таком хмуром, какой-то надеждой, какой-то верой, какой-то почти уверенностью в лучшее завтра всё дышало. Никто бы, может, не умел объяснить, на чём основывал надежды, – плыли по воздуху Дыхание какой-то весны залетало.
Быть может, свежая ещё весть о революции во Франции так разогрела Польшу. Мы знаем из истории тот дивный феномен нашей симпатии к стране, которая столько раз разочаровывала нашу любовь и платила ей холодной насмешкой или презрением, и однако от той привязанности ничто вылечить нас не могло. Даже жестокость Наполеона и попытка в Сан Доминго, даже 1812 год, мы верили в любовь потому, что её сами имели. Было это ослепление…
В 1830 году было оно в сто раз более усиленным, чем когда-либо, революция с трёхцветным знаменем вывешивала также сами принципы, которые были записаны на нашем. С добродушием детей мы верили в братство, в пропаганду идеи и влияние революционной Франции, через холодную и неприготовленную Германию могущую достать аж до нас.
Быть может, что тогдашние наши надежды росли из тех, но те, что помнят ту эпоху, вспоминают, какие были сердца, как отворялись души, какой гигантской верой тянулись мы в будущее. Тот августовский вечер в маленькой усадебке весь дрожал этими чувствами.
Многочисленное войско Николая, фантастический и хищный деспотизм великого князя казались ничем. Великие принципы, написанные на хоругви человечности, казалось нам, должны были, как те трубы, что разрушили Иерихон, в руину рассыпать твердыню деспоизма. На лицах смеялось молодое будущее.
А! Нужно было заглянуть в те груди и сердца… что там за идеалы царили: идеалы политические, общественные, человеческие, христианские… свободы, равенства, мира, братства. Всё то, что сегодня приводит на уста остывшим, практичным государственным мужам смех, – было нашей верой, убеждением, Евангелием, будущим. Холодный скептик не смел бы даже отозваться с недоверием.
Мы были уверены, что простой, широкой дорогой идём к ясному, великому будущему, которое должно было быть делом наших рук. Препятствия должны были раздавить железные груди. Кто бы тогда мог заглянуть в будущее – трупом бы упал на месте.
Таким заразительным было влияние тех запалов и той неизмеримой веры, что люди, подхваченные ими, обращались как бы чудом. Среди этого шума стоящий на кухне Бреннер ловил слова, а так как был уже в том расположении к покаянию и искал побуждения к нему, в итоге почувствовал себя захваченным, обезумевшим, и сердце его забилось к этим людям, хотя, может, ещё не понимал их хорошо.
Когда Витвицкий начал импровизировать, Бреннера и голос, и выражение, и тепло поэзии, как бы испарением охватило, эффект которого почувствовал на себе. У него на глазах заискрились слёзы. Этот молодой свет обнял его своим очарованием, выдался ему светом, солнцем рядом с той темнотой и мраком, среди которых до сих пор обращался. Простой человек понял разницу двух крайних миров, из которых один был опутан эгоизмом, другой – усилен любовью без меры.
Застолье продолжалось до поздней ночи, хотя некоторые, более достойные, удалились перед его окончанием. Двушевского звал «Почтовый дилижанс», Хлудовского – «Польский курьер», Гжимала – «Торговая газета», других – разные обязанности. Наконец и маленькая кучка, которая ещё прохаживалась по саду, пустилась назад в Варшаву, а Бреннер, сдав как можно быстрей серебро, поспешил домой к дочери и – увы – к рапорту, который был обязан подать.
Юлия, немного успокоенная, в этот день встала; Божецкий нашёл её около полуночи в значительно лучшем состоянии, о чём также узнал пан Каликст, поджидая его на лестнице. Доктор, естественно, приписал улучшение своим лекарствам, а болезнь какому-то нервному раздражению, с которым в молодости не трудно. Подозревал панну Юлию в какой-то несчастной любви, хотя объяснить себе не умел, как она могла быть несчастной, когда красивая панна одним взглядом приобрела бы, кого хотела.
Всё более неспокойная к вечеру, дочка ожидала отца. Она знала от него, куда он хотел направиться и что должен был пробовать освободиться. Когда около полудня он не вернулся, она поняла, что власть не приняла отговорок и вынудила его к послушанию. Поэтому она ждала у окна его возвращения, с каждым грохотом выбегала, и Божецкий, который зашёл вечером, нашёл её снова немного в худшем состоянии.
Как лекарь, он приписал это влиянию вечера, всегда усиливающего симптомы болезни, не было в этом ничего угрожающего. Наказал покой.