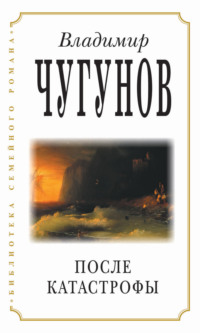
После катастрофы
«Вперед, товарищи».
Начинается сражение, в результате которого государство восстанавливается под знаменем Ленина-Сталина.
* * *Вот такой мультфильм китайцы недавно показали своим детям. О том, что он имеет отношение к России, говорят имена действующих лиц: Владимир, Феликс, Берия. И всё-таки идёт строительство китайского государства. На первом этаже – идеология, основанная на учении Владимира (Ленина). На втором – охранительные структуры, которые знаменуют Феликс (Дзержинский) и его «неугомонные», как во времена чекистских троек и всех последующих «чисток», друзья, на третьем – управленцы, к которым относится Берия. И все трудятся на благо народа, который изображает пионерка. Её мама – учитель в школе. Иначе идеологический проводник, о чём свидетельствуют её начальные слова о принципах, которыми они не могут поступиться. Далее показана кража Берией того, что принадлежит государству и всему народу. Банка из-под цитрусового сока изображает китайскую элиту. И некоторые считают, что это намёк на то, что какие-то важные документы Берия хранил не у себя дома, а в Китае.
Веря в торжество своих идей, девочка отдаёт на будущее Феликсу и его друзьям приказ для последней и решающей битвы. Но мимо опять проходит мама, рано вернувшаяся из школы, потому, видимо, что уроки отменили из-за происходящих в мире событий. И девочка не может понять, почему все стали такими грустными. А вот уже и перемены. Умирает Владимир, старый мурлыка (прежняя идеология, служившая фундаментом для государства). Мама с девочкой переезжают в новый дом. Из уст девочки звучат слова об американской угрозе. Но это, оказывается, не самое ужасное. Самое ужасное заключается в том, что старые игрушки (старая гвардия) выброшены на помойку (истории). Девочке предлагаются новые игрушки: Микки Маус, кукла Барби, намекающие на смену мировоззрения. Из всего этого погрустневшая пионерка делает вывод:
«Мама (представитель идеологического аппарата, член партии) нас предала. Они все (члены партии) предали нас».
Слова Горбачёва конкретизируют время фильма.
25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Горбачёв сложил с себя полномочия президента СССР.
Это послужило поводом к вооружению старых игрушек (старой гвардии). Берия в общем строю. Воскресший Феликс (неужели Путин?) протягивает девочке пластиковый шарик с приказом, и верная «священным принципам» пионерка его отдаёт. В результате последнего и решающего сражения государство восстанавливается на прежних основаниях.
И вроде бы, думал Евдокимов, всё понятно, если к тому же вспомнить главный лозунг хунвэйбинов: «бить ревизионистов хрущёвского толка как перебегающих дорогу крыс», но какое отношение ко всему этому имеет архив Берии, и почему его, как уверяет один из толкователей фильма, так боятся в России, Европе, США и только не боятся в Китае?
* * *А ещё вот что пришло Евдокимову по этому поводу в голову.
В детстве одними из самых любимых его мультфильмов были «Заколдованный мальчик» и «Снежная королева». Не менее завораживающее впечатление производило качество мультипликации, изящные, тёплые тона, неторопливость действия – каждую деталь, каждый эпизод можно было внимательно рассмотреть. Никакой суеты и мельтешения, никакого искажения в изображении лиц, птиц, животных. И это относилось почти ко всем мультфильмам. Евдокимов мог смотреть их часами. Они создавали в его воображении сказочный мир торжества добра и справедливости.
А ещё ему пришло на память, как однажды они, семиклашки, узнав о технологии мультипликации, загорелись желанием создать свой фильм. И одни занялись рисованием, другие – озвучиванием ролей, а Евдокимов – сочинением музыки.
Их мультфильм был про то, как в очередное зимнее утро возле деревянного здания пожарки с красным ЗИСом их дожидалась запряжённая в сани лошадка и везла в школу. Лошадью правил дядя Тимоша, а выделял её – совхоз. Они полулежали или сидели, свесив ноги, так тесно, что на скатах кто-нибудь обязательно вываливался из саней и, вскочив, пускался вдогонку. Поскальзывался, падал, вставал и бежал опять. Это вызывало общее оживление. Дядя Тимоша на это внимания не обращал. Он был очень серьёзным. И так же серьёзно произносил в конце своё: «Тпр-ру-у!» Они кричали «спасибо» и, размахивая портфелями, бежали в школу.
После уроков, сидя в санях, в виде репетиции, пели.
Будучи отрядным запевалой, Евдокимов начинал:
Я лучший ученик среди ребят,Пятерки в мой дневник, как ласточки летят.Теряю счёт, пятёрки круглый год.И дома уважение, и в школе мне почёт!Хор на это возражал:
Ха-ха, почёт, совсем наоборот!Четыре двойки в табеле – хороший счёт!И когда встал вопрос о том, что будут петь герои их фильма, мнения разделились. Одни говорили, надо то, что на самом деле, другие – тогда будет не интересно, всё-таки это сказка и для неё нужна своя песня. Последнее мнение одержало верх, и тогда они все вместе сочинили слова. Теперь Евдокимов их уже не помнил, но что-то про дядю Тимошу, его малахай, лошадку и Деда Мороза. В задорном припеве были слова: «Ай да дедушка Мороз, у Тимоши красный нос!»
А вообще всё у них тогда было по-домашнему. В школе не особо напирали на лозунги. Шла обычная жизнь, и около неё практически не задевая сознания – лозунги. Во всяком случае, поколение Евдокимова, в отличие от поколения его старшей сестры, не было таким уж идеологизированным. Да и в сестре особенной идеологизации Евдокимов не замечал. Гораздо больше места в памяти о том времени занимали брюки-дудочки да «летка-енька», под которую тогда танцевали на летней танцплощадке их старшие братья и сёстры. О Павлике Морозове, о «судьбе барабанщика» до них дошли только чёрно-белые фильмы, говорящие о навсегда минувшей эпохе. Никакой связи с тем временем Евдокимов не чувствовал, окружающий мир казался светлым, а про барабанщика они пели только весёлые песни:
Встань пораньше,Встань пораньше,Встань пораньше,Только утро замаячит у ворот,Ты увидишь, ты увидишь,Как весёлый барабанщикВ руки палочки кленовые берёт.Это же замечание относилось и к радиопередачам, во время которых, усевшись на диване и поджав под себя ноги, Евдокимов выпадал из действительности. Передачи начинались словами: «Мой маленький друг, здравствуй, это я, сказочник…» Сказки читал Николай Литвинов, и они до сих пор отзывались в душе Евдокимова немой благодарностью.
Как ни крути, а его детство ничего общего с детством китайской пионерки не имело. Ему бы и в голову не пришло в такое играть. Во-первых, что он строил. Из конструктора собирал подъемный кран, железнодорожный переезд с подымающимся шлагбаумом, из кубиков выкладывал пейзажи, животных, рыб. Во-вторых, о чём он мечтал. Разумеется, о далёких мирах («на пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы»). И если воевал, то с одними фашистами. И в-третьих, он никогда не задумывался о государственном устройстве.
Наблюдая за жизнью взрослых, у него складывалось такое впечатление, что в телевизоре – одно, а дома и на улице – совершенно другое. Ни мать, ни отец, в отличие от телевизора и плакатов, никогда не говорили о «наших священных принципах, которыми мы не можем поступиться». Их «священными принципами» были уважительные отношения к соседям. Можно было свободно прийти к ним посмотреть телевизор, если сломался свой, или попросить соли, или трёшку до получки. И соседи так же по-свойски обращались за чем-нибудь к ним. Все жили как одна большая семья. В юности, правда, дрались стенка на стенку с парнями из соседнего посёлка, но вовсе не из идеологических, а тем более националистических убеждений, как теперь, а оттого что силы девать было некуда и – от зелёной тоски. И то сказать, такая в выходные и праздничные дни наваливалась на тебя тоска! И это понятно: когда в распоряжении бездна свободного от работы или учёбы времени, которое не знаешь, на что убить, что может быть невыносимее?
Но если ты чем-нибудь увлечён или влюблён!..
Лично Евдокимова от всего этого спасла игра в вокально-инструментальном ансамбле, который был создан при местном клубе, и, разумеется, любовь…
Глава третья
Регистрацию начали за два с половиной часа. Кроме китайцев, в Пекин летела солидная группа соотечественников – человек пятьдесят: то ли туристов, то ли деловых людей, и это придало уверенности, всё-таки не одни, свои, если что, в беде не оставят.
Евдокимов приготовил распечатку электронных билетов, но за стойкой на них даже не глянули, провели развёрнутыми паспортами по считывающему устройству и выдали талоны на посадку.
Далее шли секции пограничного контроля.
И вот они уже в зоне беспошлинной торговли: хочешь, спиртное любых марок мира по дешёвке покупай, хочешь, золото или бриллианты, хочешь, парфюмерию – в общем, всё что хочешь и на что хочешь – рубли, доллары, евро. Рублей у них уже не было, а немного долларов в заначке имелось. Они купили коробку шоколадных конфет и по бутылке армянского коньяка и ирландского ликёра (Женя сказала «очень вкусный», и главное, «чуть ли не в два раза дешевле, чем у нас»).
Оказавшись напротив стеклянной стены, открывшей вид на взлётное поле, Евдокимов понял, почему так быстро двигался список табло: несмотря на изморось, самолёты подымались и садились один за другим. Взлетающие мели за собой облака дождевой пыли.
Когда подали их аэробус, Евдокимов не поверил глазам. Это был внушительных размеров «Боинг», с длинными крыльями, под которыми висело всего по одной очень огромной турбине.
Посадка осуществлялась через рукав прямо из здания аэровокзала. Не надо было, как прежде, садиться в автобус и ехать к трапу самолёта. Таких рукавов было несколько и к ним по очереди подтаскивали лайнеры, соединяя рукава с посадочными дверями.
На входе в салон, на раскладном столике, лежала стопа китайских газет, что-то вроде советской «Правды», и каждый китаец обязательно по одной брал.
Чудо техники поразило и внутри: девять сидений в ряду, пять посередине и по два у иллюминаторов. Евдокимов прикинул примерное количество рядов, умножил и получил приличное количество пассажиров. Места Евдокимовых оказались у иллюминатора, напротив крыла.
Самолёт взяли на буксир и оттащили от здания аэровокзала. Далее предстоял самостоятельный выход на взлётную полосу.
Минут пять выруливали и наконец застыли у стартовой черты.
Когда запустили турбины, Евдокимов подумал, что оглохнет, и почему-то вспомнил, как четверть века назад Юрий Васильевич Бондарев с трибуны Всесоюзной партийной конференции задал вопрос, на который у Евдокимова до сих пор не было ответа.
«Можно ли, – спросил фронтовик, защитник Сталинграда, большой русский писатель, – сравнить нашу перестройку с самолётом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка?»
И словно в подтверждение этих слов в ту самую минуту, как Евдокимов об этом подумал, самолёт сорвался с места и, стремительно набирая скорость, понёсся по мокрой полосе. Капли дождя струйками побежали по стеклу иллюминатора. Аэробус продолжал разгоняться, вздрагивая на стыках. И всё бежал и бежал, пока наконец тяжело, с трудом не оторвался от полосы и не стал медленно набирать высоту – при резком наборе при такой массе, казалось, могли бы обломиться крылья.
Евдокимову приходилось летать прежде, во времена бесшабашной юности, когда ни в одной из советских газет не писали о крушении самолётов, а это означало, что не было и катастроф, и поэтому летать было одно удовольствие. Теперь, когда правда стала доступной и крушения время от времени происходили, полёты перестали доставлять удовольствие, и если бы не крайняя необходимость, Евдокимов ни за что бы не полетел.
О приятности полёта не могло быть и речи, хотя похожие на картинки из киножурналов китайские (поскольку экипаж был китайским) стюардессы попытались его скрасить, сразу после набора высоты начав развозить на тележках соки, воды, вино. Евдокимовы попросили светлого вина. Оно оказалось китайским, ужасно противным, и они его не стали пить. На ужин наобум взяли похожее на конину сильно перчёное мясо, нарезанное дециметровыми квадратиками. Возможно, это был шашлык, усердно жуя который Евдокимов так и проглотил его недожеванным – не до конца же полёта жевать?
Разница во времени была в пять часов, а лететь предстояло семь с половиной, таким образом, в семь тридцать по местному времени должны были приземлиться в Пекине.
– У них сорок два градуса, па, представляешь!
Сорок два Евдокимов, разумеется, представить не мог.
После того как пробились через дождевые облака, открылось идеальной голубизны небо. И по крылу самолёта, если бы не болтался элерон, невозможно было определить, что летят. Поскольку двигались навстречу солнцу, стемнело быстро. Всё было ничего – и вдруг наступила ночь.
После ужина дочь немного поболтала, повозилась и, опустив шторку, заснула.
Евдокимов же уснуть, даже чуть-чуть вздремнуть так и не смог. Он или забыл, или просто не обращал прежде внимания, что в какие-то периоды самолёт начинает трясти: летит, летит и вдруг задрожит всем корпусом. И тогда принимался молиться. А молельщик из него ещё тот! Как в поговорке: гром не грянет, мужик не перекрестится. Однако и навернуться с такой высоты в его планы не входило (можно подумать, в чьи-то планы это входит!). А вообще такой зависимости от висения в районе стратосферы буквально на волоске Евдокимов не испытывал никогда, ну и чего-то лепетал.
Однако не всё время молился и, поглядывая на беспечно спящих пассажиров, время от времени смотрел на светящийся экран не выключаемого во всё время полёта телевизора. Шла какая-то китайская дребедень. Кто-то за кем-то гонялся, висел на мизинце над пропастью, стоял, как балерина, на крышке фарфорового чайника, взмывал в небо или коршуном падал вниз, разя толпы недругов мечом направо и налево. Похоже, китайцам это нравилось. Этакое развлекательное зрелище для подростков. Хотя бы йота правды, хотя бы капля действительности! И Евдокимов отводил в сторону глаза, старался не глядеть, а через некоторое время смотрел опять, пока наконец не закрыл глаза.
Он мог закрыть их гораздо раньше, но он уже знал, стоит ему это сделать, как тут же провалится в бездну. Он проваливался в неё постоянно, словно пытаясь уцепиться за спасительную соломинку, а соломинка всё обрывалась и обрывалась…
* * *Они познакомились с Аней на втором курсе музыкального училища, на новогоднем вечере. Тогда Евдокимов сыграл одного из самых забавных персонажей по имени Калибан в переделанной для борьбы с «опиумом для народа» сценке из шекспировской «Бури».
Сцена из «Бури» Шекспира
место действия – необитаемый остров в океане.
Действующие лица:
Калибан, местное чудище.
Стефано и Тринкуло, матросы, спасшиеся после кораблекрушения.
У новогодней ёлки стоят Тринкуло, Стефано с бутылкой вина в руке, перед ними на четвереньках Калибан. Они пьют по очереди из горлышка
Стефано. А ты горевал, где нам взять третьего. Смотри, как лакает?
Тринкуло. За неимением нормальных людей приходится пить с уродами. И много у тебя этого добра?
Стефано. Целая бочка. Мой винный погреб под скалой. Если бы не эта бочка с хересом, ни за что бы не уцелел после кораблекрушения.
Тринкуло. Или, заболев от простуды, дрожал от лихорадки, как этот болван. Смотри, а ему понравился херес. Эй, дурачина, хочешь ещё? Стефано, дай ему глотнуть.
Стефано даёт Калибану глотнуть
Стефано. Ну как?
Калибан. О-о, владыка, скажи, на остров с неба ты сошёл?
Стефано. А ты как думал! Прямиком с луны свалился. Ведь прежде жил я на луне. А ты не знал?
Калибан: О-о, ты – мой бог!
Стефано. Да? Тогда приложись к моему евангелию.
Даёт Калибану ещё глотнуть
Тринкуло. Да он сейчас её опустошит!
Стефано. Ничего, я без труда наполню её новым содержанием.
Калибан. Пойдём, я покажу тебе весь остров! Отныне я стану ноги целовать тебе! Прошу тебя, будь моим богом!
Тринкуло. Да этот болван – хитрец и пьянчуга. Как только его бог уснёт, он тут же выкрадет у него евангелие.
Калибан. Хочу тебе я в верности поклясться!
Стефано. Да? Тогда целуй евангелие (даёт поцеловать бутылку). Ну, а теперь клянись.
Калибан. Клянусь, отныне за тобой пойду в огонь и в воду, о, мой человекобог!
Тринкуло. Вот умора! Ай да болван! Из ничтожного пьянчужки бога себе сотворил!
Калибан. Почему он надо мной смеётся?
Стефано. Не слушай его! Хочешь, назначу тебя главнокомандующим или моим знаменосцем?
Тинкуло. Главнокомандующим ещё куда ни шло, поскольку командовать тут некем, а вот знамя ему точно не удержать. Смотри, как его разобрало, на четвереньках еле стоит!
Стефано. Помолчи! Дай ему сказать.
Калибан. О, бог мой, позволь лизнуть тебе сапог?
Тринкуло. А больше ничего лизнуть не хочешь?
Калибан. Ты на что намекаешь?
Тринкуло. Я намекаю на то, на чём сидят (в сторону) на горшке.
Калибан. О-о, бог мой, я готов лизать тебе всё, что прикажешь!
Тринкуло. Сразу видно искренне верующего и беззаветно преданного человека. Стефано, дай ему за это ещё разок приложиться к твоему евангелию.
Стефано даёт Калибану глотнуть
Калибан. А этому насмешнику служить не стану. Не дай меня в обиду, государь!
Тринкуло. Ха! Я не ослышался, этот дурак сказал – «государь»?
Калибан. Да он опять смеётся надо мной? Убей его!
Стефано. Тринкуло, предупреждаю, если ты не перестанешь издеваться над этим ангелом, придётся посчитать твои рёбра.
Калибан. Спасибо, государь! Клянусь… дай приложиться к твоему евангелию… (лакает). О-о, божественный напиток! Не знаю, на небе я уже или ещё на земле!
Тринкуло. Ты вроде бы хотел поклясться?
Калибан. Знаю без тебя!
Тринкуло. Тогда клянись. Стефано, пусть клянётся на твоём евангелии.
Калибан (кладёт лапу на бутылку). Клянусь, отныне на острове ты для меня бог, владыка и государь, а я покорный лизальщик твоих сапог!
Тринкуло. Аминь.
Стефано. Ну, а теперь споём наш гимн!
Поют:
Чихать на всё, плевать на всё —Свободны мысли наши!Чихать на всё, плевать на всё —Свободны мысли наши!Занавес.
Потом начались танцы. Евдокимов костюма не снимал и ходил героем, и далеко не сразу заметил, как одна чернявая девица при взгляде на него закрывает ладонью рот и отворачивается. Ему это наконец надоело, и он пригласил её на танец.
Так началось их знакомство. Тогда он уже играл в вокально-инструментальном ансамбле в местном клубе и очень этим гордился. В училище занимался на отделении «Музыкального искусства эстрады», Аня – фортепьяно и академическим вокалом. Особыми данными она не располагала и, понимая это, подумывала о преподавательской работе. Евдокимов же был одним из лучших и по окончании училища поступил на третий курс Московского института культуры по классу композиции, который мог бы и не окончить по причине свалившейся на него сначала подпольной, а потом, благодаря перестройке, всероссийской славы. Это было время самых драматичных отношений. В училище они друг на друга наглядеться не могли, а тут…
Впрочем, всё это было потом, тогда же каждый вечер после занятий Евдокимов провожал Аню. Они долго бродили по улицам, иногда ходили в кино или заходили в кафе-мороженое, но куда чаще стояли в подъезде. Музыку они любили оба – и классическую, и народную, и эстрадную – и могли говорить о ней часами. И всё-таки музыка не была единственным предметом их разговоров. Говорили и о кино, и о прочитанных книгах. Но ещё больше им нравилось держаться за руки и украдкой целоваться в темноте подъезда.
Первое время, посещая их репетиции, Аня даже пробовала петь, но у них уже была солистка, и пела она, к сожалению, лучше. Ребята понимающе разводили руками, а Евдокимов не решался об этом Ане сказать. И когда она догадалась, произошла первая ссора: почему молчал? Однако дулась недолго. Да и на что? А вообще, как она им гордилась, какими счастливыми глазами смотрела на него во время концертов, на танцах, во время которых никогда и ни с кем не танцевала!
Когда Евдокимов вспоминал то время, ему казалось, что тогда буквально всё вокруг пело. Пели магнитофоны, проигрыватели, радиоприёмники, уличные колокольчики. Пели в городских домах культуры, сельских клубах, парках, университетах, институтах, техникумах, училищах, школах, детских садах. Пели в каждом дворе, на каждой улице, в квартирах, подъездах, на лестничных площадках. Пели у ночных костров, походных палаток, в поездах дальнего следования, заказных автобусах.
Никогда ещё песня не была таким властелином умов и столь обнаженным нервом жизни, как во времена появления первых электрогитар, в то удивительное время негласного союза молодёжи всей планеты, когда казалось, не было гор, которые нельзя было не свернуть. Всё, что происходило вокруг – космонавтика, технический прогресс, противостояние систем, – воспринималось в виде незначительного обрамления того, чем были поглощены буквально все.
Это было невозможное ни для каких идеологических ухищрений время, когда во всех странах мира молодёжь пела одни и те же песни на одном и том же языке. От этих песен, как от родников, по всей земле растеклись ручьи и реки, орошая готовую к плодоношению почву новой весны человечества, весны молодых чувств, того неповторимого времени, когда даже «Цветы» пели («с целым миром спорить я готов… в том, что есть глаза у всех цветов, и они глядят на нас с тобою…»), а гитары были не только электрическими, но и «поющими» и «голубыми».
Это было время поступи («алло, мы ищем») всё новых и новых талантов. Господствующая идеология в сердцах молодежи была поглощена музыкой совершенно. И хотя чиновники всячески пытались вклиниваться в репертуар, ни одна из обязательных в концертных программах песен не находила отклика ни в одном сердце и не овладела ни одним умом. Они относились к той обязаловке, от которой, как от чумы, шарахались со школы. Их просто-напросто терпели, как терпят выживших из ума родственников, брюзжащую соседку.
Это было время, когда семиструнные гитары уходили в историю, шестиструнные были в дефиците, а электрогитар не было вообще, и по всей стране развернулось их кустарное производство. Это же касалось и усилителей низкой частоты, и акустики. А микрофоны! А ударные установки! Да что там, даже шнуры и разъёмы составляли дефицит!
Качество извлекаемого звука от самодельных гитар было отвратительным, но вскоре появились заводские. Лучшие ударные установки и аппаратура привозились из-за рубежа, гитары – тоже. Всё это стоило сумасшедших по тем временам денег и было доступно далеко не всем. И, однако же, это не мешало появлению всё новых и новых вокально-инструментальных ансамблей.
Охватить всё, что происходило тогда, физически невозможно. Но если от одной капли воды можно получить представление об отразившемся в ней солнце, так по истории одного ансамбля можно получить представление о целой эпохе.
Ансамбль, в котором играл Евдокимов, был создан задолго до появления названия и, разумеется, до того, как у них появились приличные инструменты и аппаратура. Каждую пьесу они оттачивали до совершенства. На это уходило всё свободное время, и довольно часто приходилось засиживаться в клубе допоздна.
Их посёлок был окраиной города. Несколько таких же поселков с различными названиями входили в эту округу. И там, где имелись клубы, были свои ансамбли.
В Питере Евдокимов упомянул о своём первом выступлении. Это ещё не было самостоятельным концертом и случилось задолго до того, как они стали играть на танцах, а выступили тогда в составе художественной самодеятельности. Сначала пел хор, потом развлекал публику хореографический ансамбль, и в самом конце выпустили их.
Перед выступлением закрыли занавес, чтобы установить аппаратуру, и на это ушло минут десять. Зал был битком, и Евдокимов хорошо помнил, какое волнение вызывало в нём его нетерпеливое гудение.
Наконец всё было готово, занавес поплыл, волнение в зале стало стихать, сотни любопытных глаз устремились на сцену, а Евдокимову казалось, на него одного, стоявшего впереди перед микрофоном с гитарой.
Когда послышался счёт палочек, Евдокимов от волнения начало вступления пропустил. Не проглотил, как сказал, пару слов, а просто не сумел вовремя начать. В зале послышались ехидные смешки. Однако Евдокимов сумел взять себя в руки и, несмотря на затянувшийся до неприличия проигрыш, начал:
Для меня нет тебя прекрасней…И, заметив, как по залу прошла трепетная волна, приободрился.
Но ловлю я твой взор напрасно.Как виденье, неуловима,Каждый день ты проходишь мимо.Затем пела их солистка. Поскольку далеко не всем из старшего поколения их «модные песни» были по душе, её выступление прошло на ура. А пела она: