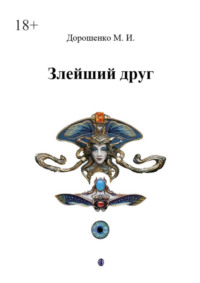
Злейший друг
– Мы вас ждали, – сказала Афродита, снимая перчатку, но ничего, кроме легкого волнения я не ощутил от прикосновения к ее руке. – Нам хотелось внести некоторую ясность в наши отношения. Дело в том, что мы – боги, – сказала она непринужденно, – античные боги. Приходится так представляться, поскольку земными словами феномен нашего присутствия здесь не объяснишь. Фактически, мы вам лишь кажемся. На самом деле нас нет, мы воплощение ваших желаний. Все, что вы, человеки, желали в сфере красоты и гармонии, мы исполняли. Вы писали книги, создавали картины, скульптуры, дворцы, а мы служили вам музами. Да мы не создавали Эдем, куда зовет вас Всевышний, мы создавали для вас Элизей. Но Красота вам уже не нужна, а о смерти Бога вы заявили в прошлом веке уже. Ваш кумир – электричество! Ради него вы готовы пожертвовать всем. Сколько зданий прекрасных порушили вы за прошедшую войну, а сколько еще разрушите! К началу следующего века во всем мире исчезнет все, что относится к Красоте и Гармонии. Да, вы будете множить свои Черные Квадраты до бесконечности. Но во всем мире не найдется ни одного творца, равного тем, коих сотни сейчас. Мы выбрали вас, Алексей, из множества людей, но не ищите объяснений. Их нет. Считайте, что вам повезло, вы стали свидетелем нашего присутствия в вашей стране. Когда-то с нами боролись: нас изгоняли из наших же храмов, но теперь зло захлестнуло весь мир, и мы на фоне всеобщего оскудения добра выглядим невинными шутниками. Скоро, совсем уже скоро, в России начнется такой хаос, от которого содрогнется земля. Мы оставляем вашу страну, покидаем, как черные курицы.
– Но война скоро кончится, – попытался я им возразить, – и все станет на свои места.
– Нет, молодой человек, – сказал Гермес, – вы еще не знаете, что такое хаос. Ад проснулся!
– Не дай Бог вам, Алешенька, дожить до этих страшных дней. Лучше бы вам погибнуть на фронте. Мы предлагаем вам сесть в нашу лодку и отправиться вместе с нами. Не пожалеете, уверяю вас, Алексей.
– Но как же Россия, сударыня? Я не могу дезертировать с фронта.
– Как хотите. Мы вас предупредили. Касательно России, – вскоре ее не станет.
– Что значит «не станет»? Куда она денется?
– Что стало с Византией? – спросил Гермес. – А что с Пергамом?
– Мы так и знали, Алексей Николаевич, что вы откажетесь. Что ж, – вы вкусили с нами наисладчайший плод, испробуйте теперь его горькую сердцевину. Еще раз вас предупреждаю: тот плод будет горчайшим. На земле только один последний плод будет еще горше, но с вас и этого станется. Пробуйте.
Мы как-то буднично погрузили чемоданы в лодку, и Афродита вновь обратилась ко мне:
– Если вы все же захотите, милейший Алексей Николаевич, бежать из этой страны, возвращайтесь сюда. Вы уйдете по этому каналу. Он выведет вас к Финскому заливу, ну а там… молитесь Богу и прощайте!
Лодка тронулась и поплыла. Я остался в пустом зале с моей чудобоязнью и лихорадочными поисками какого-нибудь объяснения движению лодки. Она просто скользила по воде, если не сказать над ней, без всяких весел и паруса.
Не вам, господа, объяснять, что стало с Россией в последующие годы. Да, Ад проснулся, и я это увидел своими глазами в Сиваше. Мы отстреливались от наседающих красных из пулеметов. Они подплывали на баржах, спрыгивали с них и шли по мелководью. Время от времени они все разом оседали. Людей уже нельзя было различить, это были какие-то грязевые бугры, которые вдруг оживали и бежали на нас, вновь оседали и вновь оживали. Казалось, сам ад нескончаемым потоком извергался из грязи.
Мы запаслись несколькими ящиками шампанского для охлаждения ствола пулемета и утоления жажды. Достаточно было поднять руку с бутылкой над окопом, чтобы через минуту ее откупорила красная пуля. Один из офицеров достал из кармана томик Малларме и стал читать стихи на французском. Когда на несколько мгновений прекращалась стрельба, во внезапно наступившей тишине был слышен его хриплый голос. Наконец, и его голос затих. Он просто остался сидеть на стуле с книгой в руке и дыркой в голове. Я стал впадать в бредовое состояние: рядом со мной кто-то похожий на меня стрелял из раскаленного докрасна пулемета, вокруг простиралось чистое нереально синее ледяное поле. Вокруг овального стола с яствами стояли плетеные кресла, из густой синевы воздушной среды тянулась к столу ветка сирени с бесшумно жужжащим шмелем, а над вареньем вились неизменные спутники дачных чаепитий – черно-оранжевые красочные осы; какие-то нарядные, по-летнему во все белое одетые люди пили чай в беседке, обозначенной в воздухе двумя-тремя заштрихованными плоскостями узорной решетки. Я говорил, как и все, но звуков своего голоса не слышал. Скрипач подыграл мучительно-знакомой даме, она, по-видимому, спела. На какой-то высокой ноте вдруг прорвался звук разорвавшегося снаряда. Лед развалился, и бесовское воинство вновь восстало из вод Сиваша. С каким-то нечеловеческим упорством они ползли и ползли. Рядом со мной остался всего один человек. Он вставлял очередную ленту в пулемет, я стрелял, а он руками в белых перчатках открывал одну бутылку за другой. До сих пор, господа, я вздрагиваю, когда рядом со мной открывают шампанское. Наконец, что-то ухнуло за спиной, и я очнулся через восемь месяцев на улице Воронежа в чужой одежде, без документов.
Вся моя семья погибла: мать умерла от тифа, старшие сестры от голода, младший брат от шашки буденновского конника, защищая сестру на улице Севастополя. На следующий день ее вместе с тремя сотнями таких же, как она, пленниц расстреляли на молу под дулами пушек французского броненосца… для устрашения французов, должно быть. В двадцать втором году я явился в ЧК с повинной по очередной амнистии, и меня тоже расстреляли. Я вылез ночью из братской могилы, поскрывался еще года два и, наконец, решил добраться до Петербурга. Никого из моих прежних знакомых мне не удалось разыскать, кроме моего бывшего друга, который стал большим начальником в комиссариате иностранных дел. Преодолевая отвращение, я все же отправился к нему, скорее из любопытства, чем по необходимости: проследил за его машиной на извозчике и явился к нему на квартиру. Он открыл дверь и в первое мгновение как будто смутился. На нем был парчовый китайский халат под стать роскошной обстановке в квартире.
– Ты поменял свои вкусы? – спросил я.
– Отнюдь, – ответил он, – мои вкусы остались прежними, а вот обстоятельства изменились. Я, как и прежде, ненавижу роскошь в квартирах врагов, а в своей обожаю.
– Стало быть, ты занял место, предназначенное лакею.
– А ты все еще живешь бреднями юношеских диспутов?
– Ба, да ведь это же… – сказал я, указывая на китайскую лаковую вазу, некогда принадлежащую нашему общему знакомому.
– Да, это его вещица», – сказал он с усмешкой.
– А где он сейчас?
– Купается в Лете.
– О, – изумился я, узнавая еще один раритет из квартиры другого знакомого, – а Иван, забыл, как по отчеству, тоже купается в Лете?
– Нет, Иван Александрович в Стиксе. Он не канул в вечности, а попросту расстрелян.
– А хозяин вот этой вещицы? Не помню, как его звали.
– У тебя отличная память на вещи. И этот тоже расстрелян.
– Получается…»
– Да, из всех наших знакомых в живых остался только ты один.
– Должно быть, потому…»
– Что беден, как церковная мышь, и не в ладах с правосудием. Да-да, с правосудием, – подчеркнул он, разливая коньяк по рюмкам, – а потому нуждаешься в моей помощи, не так ли?
Несмотря на омерзение, которое вновь всколыхнулось во мне, я не сумел заставить себя встать и уйти. Рюмки коньяка оказалось достаточно, чтобы я расслабился и позволил угостить себя деликатесами, которых я не видел уже много лет. Однако вторая рюмка вернула меня к действительности. Чувство опасности подсказывало мне, что нужно уходить, и все же я позволил ему оказать мне услугу. Он вручил мне записку к своему коллеге, чтобы тот пристроил меня в какую-то школу.
– Учителем? – спросил я его.
– Нет, скорее учеником. Тебе нужно привыкнуть к новому образу жизни. Поучишься там, успокоишься: все уладится, все станет на свои места.
Я отправился по указанному адресу, где был арестован и направлен в школу познания жизни на Соловки.
Надо сказать, что для познания жизни Соловки показались уже чем-то лишним. Четыре года, проведенные в лагере, и два года ссылки почти ничего не прибавили к уже пережитому ранее. Впрочем, на Соловках окончательно окрепла моя вера в Бога. Когда старинный друг нашей семьи отец Евстихий, который тоже познавал жизнь на Соловках, спрашивал меня: «Веруешь ли ты нынче в Господа нашего Иисуса Христа?» – я неизменно отвечал: «Нынче верую, батюшка. Однажды он вернулся в барак какой-то радостный, просветленный и вновь вопрошал меня трижды, а я ему отвечал:
– Верую, батюшка, верую!
– Вот папенька-то ваш обрадуется, когда я ему расскажу. Прощайте, Алешенька. Я возвращаюсь домой», – сказал отец Евстихий, благословил меня, расцеловал трижды и направился к выходу.
– Рехнулся ваш батюшка, – сказал сосед по нарам, – скарбик свой позабыл на радостях.
– А я налегке, – ответствовал отец Евстихий, перекрестил нас всех и вышел из барака.
Вскоре явился еще один мой сосед по нарам и сказал:
– Прощайте, господа. Не поминайте лихом. Нам с отцом Евстихием объявили смертный приговор.
Через час их расстреляли.
Я отбыл свой срок на Соловках и два года ссылки, но, когда мне добавили еще четыре года, не выдержал и бежал с места ссылки. Дорога до Петербурга заняла у меня полгода, что можно было сравнить с путешествием по Преисподней – кто ночевал на вокзалах в России, может понять, о чем идет речь. Мною двигала безумная мечта вновь увидеть Дом Богов, а там будь что будет. Я его не узнал поначалу, с него как будто содрали шкуру: изразцовый герб над входом был выдран с корнем из стены и валялся на земле. Стеклянный купол отсутствовал, а на месте приемного зала образовался двор с захламленным каналом. Стою я и плачу.
– Алексей Николаевич», – кто-то неожиданно окликает меня.
Оборачиваюсь: красивая молодая женщина в сапогах и гимнастерке стоит рядом со мной.
– Не узнаю вас, барышня. Право, не узнаю.
– Я Маша, – отвечает она, – а вы – мой учитель.
– Бог ты мой, Машенька, да как же ты изменилась! Красавица, настоящая красавица. Как вы здесь оказались?
– Мне было скучно в Европе. Мама вечно оставляла меня одну, а сама носилась с Гермесом незнамо где. Она всегда относилась ко мне, как к посредственности, а я никогда не разделяла ее декадентских замашек и пристрастия к роскоши. Я нашла любимого человека, он работал в Торгпредстве в Берлине, и вернулась на родину.
– Машенька, а тебе не жаль своего дома? Смотри, во что его превратили.
– Я же вам говорю: ненавижу, ненавижу буржуазные ценности! Люблю простоту, понимаете?
– Вашу семью нельзя причислить к буржуазии, ваши родители не аристократы даже, в них есть нечто божественное.
– Это все бредни моей безумной матери. Ничего возвышенного в аристократии нет», – сказала она с раздражением, но все же пригласила меня в свою коммунальную квартиру, состоящую из двух комнат в конце длинного коридора, стены которого были еще более загажены, чем снаружи.
Она превратилась из гадкого утенка, какой казалась в детстве, в красавицу, похожую на мать, но ничего не осталось в ней того, что можно было бы назвать божественным. Вскоре явился с работы муж – в косоворотке, подвязанной какой-то нелепой веревкой, с проплешинами на голове и с потрепанным портфельчиком в руке. Молчаливый, тусклый – никакой. Попили чаю. Она нервно курила папиросы, время от времени вскакивала и начинала стучать на разболтанном ундервуде.
– Подрабатываю, – говорила она, и дергалось веко у нее на глазу, – денег едва хватает, но мы всем довольны.
Я рассказал о бегстве из ссылки. Супруги сказали: напрасно, надо было отбыть свой срок, чтобы стать полноправным гражданином. Когда же, выходя, обернулся, увидел, как она, глядя на меня из дальнего конца коридора, говорила с кем-то по телефону, и по выражению лица, по той рассеянно-блаженной и одновременно напряженной улыбке понял: доносит. Школа жизни ничему не научила меня: я дал супругам адрес моего убежища. Что мне оставалось делать? Я купил на последние деньги коньки и вернулся назад к дому: канал во дворе был покрыт первым льдом.
Нет в человеческом языке таких слов, чтобы описать эту ночь. Я катился безо всякого направления – вперед, только вперед. Ни людей, ни кораблей, ни птиц не попадалось на моем пути. Вокруг расстилалась бесконечная ледяная пустыня. Время от времени луна выскальзывала из облаков и поджигала лед белым огнем, затем вновь наступала мерцающая темнота. Местами в проплешинах льда колыхалась вода, а в ней – чье-то лицо, пугающе живое на первый взгляд, которое при ближайшем рассмотрении оказалось резным изображением головы Горгоны на дверце шкафа.
Неожиданно от вмерзшего в лед баркаса отделилась дюжина пограничников. Всякий раз при виде буденовок у меня в голове начинает стучать пулемет, как тогда, на Сиваше. Cолдаты дали залп и погнались за мной. На ногах у них были надеты валенки с коньками. В своих длиннополых шинелях они походили на стаю неуклюжих птиц. Догнать они меня не могли: я был налегке, а они не выпускали из рук винтовок с маленькими красными флажками на штыках. Впрочем, они и не отставали. Время от времени весь взвод останавливался и давал залп. Пули свистели у меня над головой, скрипел лед под коньками, сияла луна, матерились солдаты. Несколько раз я обходил участки тонкого льда и, наконец, перекрестившись, заехал на прозрачную, опасно захрустевшую поверхность. Солдаты последовали за мной, не сворачивая. Они уже почти настигали меня, но с ужасающим треском лед лопнул, и море в мгновение ока поглотило их всех. Если сравнить жизнь человека с симфонией, то поднятая ими буря в полынье составила жуткий парафраз шторму в гроте Дома Богов. Мои преследователи барахтались в черной, мгновенно вскипевшей воде, мешая друг другу вскарабкаться на лед. Один за одним они исчезали под водой, как будто их кто-то сдергивал вниз, в преисподнюю. «Из земли вышли и в воду изыдите!
Луна на несколько минут выскользнула из облаков как будто только для того, чтобы осветить ужасный спектакль и вновь исчезнуть. Я продолжал катить куда глаза глядят. Неожиданно чья-то теплая плоть оказалась у меня в руках, и мы заскользили в танце по льду. Да, это была она, моя первая любовь. Однажды на балу в гимназии незнакомая гимназистка пригласила меня на танец. Я мгновенно влюбился в нее, а когда танец кончился, она выскользнула из моих объятий, словно Золушка, сбежала по лестнице и исчезла, оставив меня с самым прекрасным ощущением, которое когда-либо пришлось испытать. Мои отношения с Афродитой выходили за пределы земного опыта, человеческая плоть не была приспособлена для испытаний подобного рода. Моя влюбленность в нее продолжалась ровно столько, сколько длилось ее присутствие рядом, но танец с безымянной гимназисткой остался в памяти навечно. И вот я вновь скользил с ней по паркету уже без коньков, и был гимназистом, и был, как и прежде, влюблен. Только вместо стен танцевального зала гимназии сверкали прозрачные стены ледяного дворца, и с каждым поворотом зал преображался: менялись узоры орнамента и обстановка, а также костюмы танцующих рядом людей. Впрочем, лицо гимназистки тоже менялось, оставалось неизменным лишь ощущение счастья. Время от времени я летел в погоне за Афродитой надо льдом, то вновь танцевал с гимназисткой или летел с ней к луне.
Сколько времени прошло – неизвестно, быть может, минуты, а может быть, годы. Неведомая сила втягивала меня в тот прекрасный и призрачный мир, куда приглашала меня Афродита. Однако чьи-то строгие глаза летели вместе со мной подо льдом. Они тревожили и манили меня. «Очнись, очнись!» – говорили глаза. Я бросился на ледяной паркет и вышел из своего прекрасного бреда, разбив колени, локти и лицо до крови. Деревянная икона колыхалась подо льдом на воде. Это был Спас Нерукотворный. Спаситель смотрел на меня с какой-то укоризной, свойственной всем иконам этого канона. Икона слегка покачивалась на воде, отчего казалось, что Христос пытается что-то сказать. Я достал браунинг, обстрелял края, выломал ледяную пластину, взял икону, вернее – попытался, но ее не оказалось. Изображение колыхалось на воде, но самой иконы не было. Может быть, впервые в жизни я помолился по-настоящему, сердечно, как никогда не удавалось раньше. Вскоре рассвело. Оказалось, что я нахожусь неподалеку от берегов Швеции. Невероятно, но за ночь мне удалось пересечь весь Финский залив и Балтийское море.
Вскоре я переехал из Стокгольма в Париж. Единственное, что увез из России, было последнее письмо отца с рекомендацией втирать золотой порошок в черную лакированную поверхность. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось заработать денег на покупку небольшого количества сусального золота самой низкой пробы, за пределами которой золото теряет уже свое главенство и становится лишь составной частью сплава. Мои опыты проистекали не из желания достичь какого-то магического эффекта, а скорее всего, из стремления выполнить отцовскую просьбу, но каково же было мое удивление, когда в глубине позлащенной поверхности шкафа возникло изображение хрустального яйца с виденными в детстве чудесами.
Вскоре все в моей жизни превратилось в некое подобие наркотического сна. Большую часть заработанных денег я тратил на золотой порошок, который всякий раз поглощался без остатка. Перед моими глазами прошла вся моя жизнь, но не в точных деталях, какими они были в действительности, а с некоторой стилизацией в духе Мира Искусства. Чаще всего возникали видения, связанные с моим пребыванием в Доме Богов. Все мои попытки сфотографировать видения не увенчались успехом, более того, никто их не видел. Чтобы не прослыть сумасшедшим, пришлось прекратить попытки публичных демонстраций чуда. Также не увенчались успехом усилия по розыску исчезнувших богов. Никто из моих знакомых не слышал о доме под стеклянным куполом, где творилось столько чудес. «Ну вы подумайте, – убеждали обычно меня, – неужели то, что вы описываете, могло остаться незамеченным в Петербурге? Бедняжка, – добавляла моя собеседница. – Терпите, претерпевый до конца, спасется.
Я частенько посещал одно полюбившееся кафе на окраине Парижа. Однажды в человеке, который сидел за моим столиком, я признал в нем, когда он отложил газету, своего друга.
– Мстить будешь? – деловито спросил он, принимаясь за кофе.
Я молча смотрел на него.
– Предлагаешь дуэль? – вновь вопрошал он меня.
– Ответь мне только на один вопрос: ты выдал меня из идейных соображений, как классового врага, или испугался, что я увидел у тебя вещи расстрелянных друзей.
– Отнюдь! Мне некого бояться, и ты мне не враг, но ты же знаешь: люблю разбить что-нибудь ценное. Дружба – вот драгоценная ваза! Я ее и разбил. Впрочем, это дела давно минувших лет. Давай мириться. Не хочешь? Напрасно. Я, видишь ли, здесь при исполнении. Чего именно, ты спросишь меня? Революционного долга…
– Перед бандитами? Впрочем, ты сам такой, если не хуже.
– Устами младенца глаголет Истина. Ты рассуждаешь, как ребенок, но в каком-то смысле ты прав. Да, я присоединился к бандитам, коим ты тоже сочувствовал в юности. Но я-то знал, с кем имею дело, а ты обманывался. Пора и тебе повзрослеть. Россия в самом начале новой эры, а мы у ее руля, понимаешь? Никакая революция не сделает отдельно взятого Ивашку счастливым, но она возвысит нас всех до третьего неба Утопии. Камень, отвергнутый Достоевским, стал во главу угла. Ради такого эксперимента я готов пожертвовать всем…»
– Кроме себя.
– Пропускаю твое замечание, как несущественное. Я родного отца расстреляю за дело революции, а ты – классовый враг, понимаешь? Но, кто старое помянет, тому глаз вон, не так ли? Я здесь занимаюсь продажей антиквариата. Приходи в лавку мсье Лаваля, у меня есть сюрприз для тебя – кое-что из вещей твоего отца. Приходи – подарю. Как видишь, с годами я тоже становлюсь сентиментальным.
Я знал, что предложение моего друга не что иное, как ловушка, но все же какая-то неведомая сила толкала меня на свидание с ним. «Я для тебя, – звучали у меня в голове его слова, – олицетворение Родины, можно сказать. Понимаешь, куда я клоню?» Не помогли даже рассказы о том, что агенты НКВД заманивают эмигрантов рассказами о якобы имеющихся в антикварных лавках вещах, которые дороги людям, и похищают подчас без какой-то практической цели. Но я не мог устоять перед искушением, ибо чувствовал, что это и есть та самая дуэль, на которую намекал мне мой друг. Перед выходом я натер золотым порошком дверцу шкафа, выдохнул на нее и увидел в черной лакированной воде икону подо льдом. Последние сомнения в необходимости отправиться на свидание отпали. Я даже оставил дома свой браунинг и гранату, коей меня снабдили знакомые.
Когда я вошел в лавку, никого в ней не было, но стоило мне только подойти к прилавку, как за моей спиной с грохотом опустились железные решетки на двери и окнах. В руках у двух продавцов оказались пистолеты.
– Ты все же явился, – сказал мой друг, появляясь из глубины магазина, – я так и знал. Школа жизни тебя ничему не научила.
– Отнюдь, – ответил я ему в его манере, – я знал, что это ловушка.
– Обыщите его.
– У меня нет оружия, ибо я уже не воюю.
– Стало быть, у тебя нет оружия. Странно.
– Я не пришел тебе мстить, повторяю.
– Зачем же ты пришел?
– Ты сам меня пригласил.
– Ах да, запамятовал. Выбирай все, что хочешь. Здесь все из прошлого твоей бывшей Родины. Стало быть, ты пришел без оружия, но вызвал полицию. Тем хуже для тебя. Мы выведем тебя через подземный ход и отправим домой для продолжения обучения в известной тебе школе. Там тебе вправят мозги, чтоб неповадно было покидать Родину без разрешения.
– Ты можешь мне не верить, но я пришел один.
– Почему же, верю, ты сентиментален, но тем хуже для тебя, – и он из двух пистолетов стреляет в затылки своих сотрудников. – Ну, что ты на это скажешь? Дуэль продолжается! Сейчас ты возьмешь вот этот конверт и прочтешь содержимое, что бы ни случилось. Обещай мне прочесть его сразу, не отходя от этого места.
Он подал мне конверт и когда я принялся его открывать, приставил оба пистолета к вискам и выстрелил себе в голову.
Надо сказать, что я сразу, когда вошел в помещение, заметил на стене нужную мне икону. Это и была цель моего визита. Оставалось только прочесть письмо, и можно было уходить, хотя я еще не знал, как это можно сделать. В двери уже стучали обеспокоенные выстрелами прохожие. Должно быть, они уже вызвали полицию.
– Здравствуй, Алеша, – сообщал мне мой друг. – Пишу с того света. Наверное, тебя изумило мое самоубийство, совершенное на твоих глазах. Но ты же знаешь, – я люблю разбить какую-нибудь драгоценную вещь, а что может быть дороже собственной шкуры? Она у меня из фарфора – шучу. Я, как ты знаешь, сотрудник НКВД высокого ранга. Недавно пришло письмо: меня вызывают в Москву. По тону и манере изложения я понял – пришел мой черед. Мне выпала черная метка от товарищей по ремеслу, а ремесло у нас одно – живи сам и не давай жить другим. По твоей логике я бы мог остаться во Франции или тайно уехать в другую страну, ан нет! Я сам осуществлял акции подобного рода и знаю, сколько сил и средств тратится на поимку предателей. У меня нет выхода: там меня ждут пытки с расстрелом, здесь – вечный страх и та же пуля в затылок. Впрочем, тебя это мало волнует, должно быть. Собаке собачья, ты думаешь, смерть. Я – отпетый мерзавец, однако романтик, такой же, как ты. С обратным знаком, разумеется. Поэтому захотел перед смертью кому-нибудь навредить. По привычке. Вначале собирался украсть самолет, начинить его взрывчаткой и направить на Шамбор или Консьержери. Ты спросишь меня, почему бы мне не нанести вред нашей Родине, столь нелюбезно поступившей с нами обоими. Я и сам изумляюсь, но мне как-то боязно делать «Ей» больно. Некоторое время я еще колебался, но как только увидел тебя, сразу понял: вот, кто мне нужен для порчи. Я даже панихиду по тебе отслужил заранее. Сейчас явится полиция: попробуй выкрутиться из ситуации с тремя трупами в неблагополучной антикварной лавке. Я стрелял в перчатках, так что отпечатков пальцев не будет. Если ты все-таки выкрутишься из этой ситуации, в одной из могил русского кладбища тебя ждет награда: там находятся собранные мною сокровища. С приветом с того света. Твой злейший друг!
Едва я успел дочитать письмо, как бумага внезапно почернела и загорелась синим пламенем, как если бы сам Ад прорвался с того света. На столе стояло услужливо приготовленное блюдо с водой, но и в воде бумага, пропитанная магнием, продолжала гореть красным пламенем. Несмотря на то, что с улицы уже начали ломать решетку, я, не торопясь, снял икону со стены, за ней обнаружился рычаг. Потянул за него: открылась потайная дверь. Я спустился по лестнице вниз, прошел длинный коридор и вышел на улицу.

