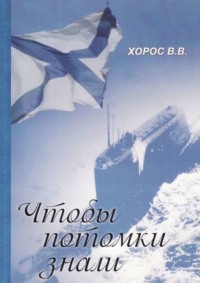
Чтобы потомки знали
Любимым моим предметом стала история, а с учительницей возникла взаимная симпатия (чисто деловая!) и она обеспечила меня учебником «История древнего мира» (дефицит!) в числе самых первых. Очень сильным преподавателем была Прозорова – большая поклонница Тимирязева и называла его только по имени-отчеству (Климент Аркадьевич). В нашем же классе учился ее сын-скрипач. Больше всего я не любил уроки немецкого языка, хотя преподавала его Воробьева Эмма (Михайловна, кажется), яркая, очень красивая блондинка – волосы были совершенно белые, причем не только у нее, но и у ее дочери. В школе был небольшой буфет, в котором почти всегда придавали вкусные пирожки с картошкой.
В классе уже наблюдались зачатки любовных «страданий» – записочки, стрельба глазками и прочие сигналы симпатий. И меня эта «эпидемия» не миновала: я попал «под обстрел» со стороны Лиды Головчанской – малопривлекательной, но очень настырной хохлушки. Избавиться от ее преследований было нелегко. Многие из одноклассников уже курили, матерно ругались, играли на деньги… Наиболее «отпетыми» были Волосатов и Дружинин. Мой брат Жека ничем не выделялся, кроме телосложения, казался спокойным и даже флегматичным. Видели бы его на футбольном поле!
Сразу после окончания учебного года меня отправили в пионерлагерь в Жуковку. Там у меня состоялось два знакомства с людьми, сыгравшими заметную роль в моей жизни. Я попал в один отряд с Геннадием Кугаевским. Именно он по своему выбору подобрал ребят в свою палату. Такое «самовластие» ему позволяли потому, что начальником лагеря была его сестра Ирина. Она была, в свою очередь, женой фотохудожника Елисеева, работавшего в «Тобольской правде». Все это я узнал позднее, когда мы надолго подружились с Геной. В нашем отряде он был безусловным лидером.
Другим лидером стала Людмила. Это она расписала своих подружек по «женихам». Себе она, естественно, выбрала Гену, а своей лучшей подружке Иде Арефьевой назначила меня. «Жениховство» было, разумеется, формальным, да оно и не могла быть иным, так как всем нам было не больше 13 – 14 лет. Однако, жизнь повернулась так, что Ида позднее стала моей подругой на годы. Но об этом будет сказано ниже.
3. Война
22 июня я с Евгением и его друзьями был на стадионе, а когда мы вернулись домой, узнали, что началась война. Теперь над нами можно посмеяться, но тогда мы были рады: еще бы! – в наши головы крепко вбили, что «от тайги до Британских морей Красная Армия всех сильней». Мы верили, что забугорный рабочий класс только ждет «искры», чтобы свергнуть гнет капиталистов-угнетателей, и пролетариат всех стран соединится, чтобы свершить Мировую революцию. Самое «смешное» случилось на следующее утро, когда радио сообщило, что атаки фашистов повсеместно отбиты, а наши взяли в плен 5 000 захватчиков.
Эйфория прошла быстро: в сводках информбюро замелькали названия оставленных городов, у военкомата и на пристани стоял вой женщин, провожавших на войну мобилизованных мужей, отцов и сыновей, в магазинах быстро исчезали макароны, крупа, мыло, спички, соль, опустели полки, еще недавно забитые многолетними запасами банок с крабами «chatka». Уже в августе с приходом каждого парохода прибывали эвакуированные из Одессы, Риги, Минска… Начали прибывать не только беженцы, но и организации. Для их размещения закрывали школы, какие-то конторы, общественные организации. К нам в дом «на постой» направили семью из Ленинграда: женщину, ее мать, дочь и сына. Мальчику было не больше трех лет и он целыми днями ходил за бабушкой и просил кусочек хлеба, «ну хоть корочку, ну только попробовать…» Жалко было пацана, но и помочь я не знал как, поскольку карточной нормы хлеба уже и самим не хватало. Девочка примерно моего возраста вела себя очень достойно, удивляла меня своей выдержкой и скромным поведением. Жили они у нас недолго, месяца два – три, а потом женщину направили куда-то на работу (думаю, в район; вероятно, она была ценным работником).
Следующими постояльцами оказалась семья Коржавиных – он был начальником «Мельстроя», его жена Мария и дочь Мира лет пяти сидели дома. Рост численности населения города за счет эвакуированных был значительным, поэтому вопрос обеспечения людей хлебом стал первостепенным. Без новой мельницы эту проблему решить было невозможно. Так наш квартирант стал одной из важнейших фигур в городе, поэтому для него к нам в дом даже провели временную телефонную связь и по вечерам он часто звонил в Омск – наш областной центр.
Он был большим любителем пива (как он его доставал – не знаю) и раза два – три угощал меня пивом и ржаными сухариками, размоченными пивом в блюдце и посыпанными солью.
У всех работающих день стал ненормированным. Мать работала бухгалтером на пристани Госпароходства и после обычного трудового дня конторских выгоняли на выгрузку грузов, прибывавших для обеспечения не только нужд города, но и для эвакуированных предприятий. Плохо было не только со снабжением, но и с работой старых городских предприятий (бани, электростанции, водопровода), поскольку число потребителей резко возросло и мощностей предприятий не хватало.
Как я уже вскользь упоминал, и мать, и отчим были схожи своей запасливостью, поэтому у нас в подполье, в кладовке были огромные запасы муки, консервов, рыбы соленой, конфет и прочих продуктов, огромная корзина папирос, табака, махорки, но все было в неприкосновенности, так как нельзя было показать квартирантам наши богатства. Я знал это, но вынужденно терпел до поры – до времени.
Наша школа была расформирована и в 6-й класс я уже пошел в «главную» школу города – среднюю школу №1. Школа оказалась переполненной, только шестых классов было, по моему, пять. Не помню точно, кто из моих бывших соучеников попал в наш класс, но в нем оказалось много эвакуированных. Прежде всего, были девочки из московского детдома: Нина Десятчикова, Тамара Родина, Тамара Смирнова, Катя Духонина и Капелькина. Москвичами также были Истомин и Юдин (прирожденный артист – великолепно читал вслух литературные отрывки из учебника, особенно диалоги, меняя голос). Рядом с нашим был еще один шестой класс и там появилась яркая ленинградка Михина Ирина. С ней у меня завязалась дружба (не сразу!), которая затянулась на целые десятилетия (дружим уже седьмой десяток лет).
Все эвакуированные заметно отличались от нас – аборигенов каким-то особым умением держать себя, большим кругозором и выговором, отличавшимся от сибирского. Характеры, таланты и наклонности были разные. Десятчикова вскоре стала лучшей ученицей, была самой серьезной. Родина покорила меня виртуозным владением скакалкой: танцевать, прыгая через быстро мелькавшую веревку, кроме нее, не мог никто. Смирнова отличалась какой-то вульгарной раскованностью, а Капелькина и Духонина были тихи, скромны и незаметны – настоящие «серые мышки».
В нашей школе не оказалось многих моих бывших соучеников. В городе появились два новых ремесленных училища (в дополнение к «старому» РУ №2 связистов) и школа ФЗО. Добровольцев учиться там было немного и набор в них осуществлялся мобилизацией. Одним из первых в новое РУ был мобилизован Евгений. Училище было с металлургическим уклоном. Другое училище готовило металлообработчиков, а школа ФЗО – кадры для речного флота.
Уже летом 1942 года нас начали гонять на общественные работы: заготовку дров для школы (водяное отопление классов обеспечивала собственная котельная), на прополку овощей в подсобном хозяйстве. Опыт голодной зимы заставил разделать под картошку все пустовавшие раньше земли и создавать подсобные хозяйства. Основными культурами в частных огородах были картошка, капуста и табак; остальные овощи отошли на второй план. Работа в собственном огороде – запас воды, поливка и даже прополка вошли в мои обязанности. Хотя я уже «профессионально» покуривал, сажать табак не решался. Его мать посадила для меня только весной 1943 года.
С началом войны в городе сильно обострились квартирные проблемы (они и до войны существовали). Кроме уже упомянутых выше постояльцев жили у нас непродолжительное время супруги Табаченко – Костя и Галя. Жить долго, судя по всему, у жильцов недоставало терпения. Воркотню матери по поводу мелких оплошностей («не так поставила», «плохо прикрыла», «громко стукнула», «не вовремя закрыла») никто не мог долго выдержать. Вот и Табаченки жили только одну зиму, а весной переселились на пароход, где Костя начал плавать капитаном. В середине лета они предложили мне сходить с ними в рейс. Я с радостью согласился. Для меня это был великолепный отдых от деспотизма матери. Забот у меня на судне практически не было, только на каждой стоянке я занимался рыбалкой на блесну. Бывали и удачные забросы: однажды на одной заводи поймал трех достаточно крупных щук. Во время стоянки в селе Покровском, недалеко от Тюмени, мне показали дом Гришки Распутина и рассказали, чем он знаменит. Дом его и в те годы отличался от остальных величиной и добротностью. Жить на пароходе-буксире мне очень нравилось. Мое пристрастие к водному транспорту только крепло.
1 сентября 1942 года я пришел в свой 7-й класс. Учащихся из пяти шестых осталось всего на три седьмых. Из нашего прошлогоднего шестого осталось не больше половины, в том числе все детдомовки – москвички. Пришли Гена Кугаевский, Ира Михина, Борис Мозолевский, Панделин, Прозоров, Гринберг… Я, естественно, хотел сесть со старым другом Геной, но классная дама рассадила всех по своему – мне в соседки досталась Ира. Как-то незаметно мы с ней все больше сближались. Я начал бывать у них дома. Ее мама Татьяна Николаевна работала в учительском институте, а отец Виктор Сергеевич – в институте ГосНИИОРХ. Оба кандидаты наук, интеллигентнейшие люди, жили на улице Почтовой, в убогой квартире, состоявшей из просторной комнаты и маленькой кухни, отопление печное. У них, кроме Иры, была дочь Ксана, на три года моложе. И вот в этом старом деревянном одноэтажном домишке, с удобствами на улице, стояла простенькая этажерка с великолепной библиотекой. Заядлый книгочей (уже!), я ходил к ним, как в библиотеку и перечитал всего Капитана Морриэта и других новых для меня авторов. Тогда я не заглядывал далеко и не думал, что в студенческие годы эта семья станет для меня почти родной..
В этот же год в число прочитанных книг попала и «Три мушкетера», которую я прочитал «запоем», а дал мне ее Аркашка Гринберг. Эту книгу я позднее перечитывал многократно и посмотрел несколько фильмов по мотивам этого романа. Со временем я мог бы поставить рядом с романом Дюма только роман В. Каверина «Два капитана».
Наступили зимние каникулы и Борис Мозалевский предложил мне совершить лыжный поход в деревню, где работал и жил его отец. Поход оказался значительно труднее, чем мы ожидали: стемнело раньше, чем мы успели пройти полпути. Дойдя до ближайшей деревни, а это были татарские юрты, где жили знакомые Бориса, вернее – его семьи, мы остановились на ночлег, но до этого нам еще посчастливилось поужинать вместе с хозяевами. Здесь я впервые попал за татарский «стол» – стола, как такового, не было, сидели прямо на полу, поджав ноги. Еда была потрясающая: белая домашняя лапша с бараниной в бульоне. Есть можно было «от пуза», но вот сиденье было не только неудобным, но и весьма рискованным: существовал риск опозориться из-за переполненного желудка.
Утром, нежданно-негаданно, в юрты приехал на подводе сам Мозолевский – старший и дальше мы уже ехали на лошадке. Вот только когда и как мы добрались домой – не помню. Между тем, началась Ш четверть и ничто не предвещало беды, а она уже была рядом. В последних числах февраля в школу нагрянула комиссия и начала отбирать кандидатов в ремесленное училище. Я надеялся быть забракованным по зрению, но не получилось – когда я заявил о своем дефекте, председатель комиссии заорал: «Врет он, врет»! Так с 1 марта 1943 года я оказался мобилизованным в ремесленное училище №2 связистов.
Нашу группу (а группы по-военному называли взвод) №20 назвали «радиооператорами», но уже через месяц мы вдруг стали «механиками телеграфа». Учебные часы постоянно отменялись из-за возникавшей потребности выполнять физические работы: дрова (в училище было печное отопление), уборка снега, доставка воды – из-за частых поломок водопровода иногда приходилось доставлять воду (на гору!) в огромных бочках, установленных на сани. Между прочим, этим же занимались и курсанты артучилища, расположенного поблизости от нас.
Кормили три раза в день, но скудно и однообразно: по 200 граммов хлеба на прием (всего 600 граммов), чай утром, «болтушка» и каша в обед и снова каша на ужин. И все-таки это было больше, чем на многих предприятиях. В мае наш взвод (группу) обули в лапти, выдали еще по запасной паре, выдали топоры, пилы и повезли в лес между деревнями Защитина и Сузгун на лесозаготовки, установили норму 20 кубометров «на нос» двухметрового долготья для дров. Жить нам предстояло прямо на месте работы, а еду будут привозить один раз в день. Разбились на пары, начали строить шалаши для отдыха и ночлега. Моим напарником стал Валентин Скипин, с которым в друзьях мы не были, а друг мой закадычный Генка взял в напарники Мишку Давыдова по прозвищу «Татарин», с которым он в последнее время все больше сближался. Причину этого я узнал много позже и звалась причина Розой – это была родная сестра Михаила.
Постепенно наш лагерь обустроился, выросли шалаши, около каждого небольшой костерок, пришла пора добраться до воды. Наша площадка возвышалась над Иртышом метров на 70, если не больше и заканчивалась крутым обрывом. Даже просто смотреть вниз было поначалу страшновато, а уж спускаться… И все-таки страх был преодолен, был найден приемлемый маршрут спуска, а вскоре мы освоились так, что спускались уже не ползком, а прыжками с уступа на уступ. Добравшись до берега, можно было осваивать рыбный промысел. Самыми заядлыми рыбаками были Генка и я, и, совершив нелегальный выход в город, мы принесли в лагерь снасти и могли иногда пополнить свой скудный казенный харч рыбкой, собственноручно добытой.
В своем рассказе о лесозаготовках я сознательно на передний план вывел быт (он для нас был важнее всего), а труд вроде бы позабыл. Работали! Валили деревья (тупые пилы точили сами), распиливали стволы на двухметровые кряжи и укладывали в штабеля. Обрубленные сучья тоже шли в дело – служили дровами для костров, а те, что помельче – подстилкой в шалашах, чтобы спать было помягче. У каждой пары лесорубов были свои штабеля и мы их раз в неделю сдавали мастеру, который вел учет выполнения плана. Не было среди нас «стахановцев», так как знали: пара, первой выполнившая план, все равно домой не уедет, будет помогать выполнить план отстающим. Вот и шли пары по выработке «ноздря в ноздрю».
В город возвратились ближе к концу июля и еще успели немного покупаться и порыбачить. На свои заветные места уходили по старой привычке с Генкой, но разлад между нами уже наметился. И вызван он был исключительно его пристрастием к женскому полу. Вскоре я узнал, что он уже успел познать радость тайного «супружества» с одной из учениц нашего же ремесленного училища. Очень красивой девицей, между прочим!
В самом конце июля Геннадий собрал нас, самых ближайших друзей – меня, Мишу Давыдова и Сашу Зыкова («Сану») и предложил на месяц податься в деревню Волгина, где председателем колхоза был их близкий знакомый. В годы войны председатель-мужик был большой редкостью, всюду колхозы возглавляли женщины, да кое-где мужики-инвалиды. Сомнений и возражений с нашей стороны не последовало и мы вчетвером пешочком отправились работать в колхоз (еще Шолохов в «Поднятой целине» вложил в уста деда Щукаря фразу: «Колхоз – дело добровольное»! )
Протопав двенадцать километров, мы предстали перед очами председателя. Он нам обрадовался, как родным, а, узнав Геннадия, проникся к нам доверием. Рабочих рук в колхозе не хватало, погода стояла отменная, урожай был приличный, хотя и не рекордный, так что мы пришли весьма кстати. Он быстро распределил нас на постой (всех по отдельности), послал «гонцов» за предполагаемыми хозяйками («гонцами» служили пацаны-малолетки, постоянно крутившиеся близ правления), объявил им кто у кого будет на постое, где и сколько они получат продуктов для нашего прокорма и приказал утром явиться на развод. Норму он нам установил щедрую: 800 граммов хлеба, литр молока и два килограмма картошки. Плата за работу нам будет натурой: два мешка картошки за месяц работы (по 12 ведер каждому – это нам было понятнее, чем в килограммах).
С 1 августа началась наша колхозная жизнь, работать довелось практически на всех мужских работах: на заготовке сена, уборке картофеля, возили с поля снопы хлеба… Вечерами немногочисленная молодежь собиралась на «вечёрки», пели частушки под балалайку. Нас поразило то, что большая часть частушек была матерная и пели их все, в том числе и девчонки. Запомнились такие:
Ой, маменька, жени меня,
Страсть жениться я хочу,
Если ты меня не женишь,
Х… печку сворочу,
Или еще:
Алемасовский колхоз,
До чего добился:
Председателя е…
Кто распорядился?
Колхоз «Алемасовский» можно было заменить колхозом Ворогущинским или Винокуровским по названию близлежащих деревень – все было бы справедливо: везде председательствовали женщины, а их мужья воевали или уже отвоевались. Похоронки в 1941 – 42 годах шли пачками. Из мужиков, призванных в два первых года войны, мало кто выжил. Так что в колхозах власть принадлежала женщинам-председателям и распоряжаться когда и с кем ей спать могла только она сама.
Поначалу нас шокировало употребление всеми жителями села – без различия пола и возраста – слов, в нашем понимании, матерных, но вскоре поняли, что это нормальное, бытовое, естественное название предметов и действий человека. Вот только если эти же самые слова употребляют в ходе ссоры или брани – тогда это уже мат! А если просто в разговоре, то это исконно русское обозначение. И почему эти же вещи в иностранной транскрипции произносить не стыдно, а это же самое, но по русски – стыдно? Вот такая в деревне философия.
Мы быстро освоились, питались вместе с хозяевами, спали на тюфяках, набитых душистым сеном, мылись по субботам в бане вместе с ними (и не стыдились – а чего стыдиться, это же баня, а не что-то другое!). По работе к нам претензий не было, наш труд был очень нужен колхозу. Месяц пролетел быстро, пора было прощаться. Вот тут-то председатель и высказал крамольную мысль: «А может, еще на месячишко останетесь? Ведь молотьба же на носу!» И мы остались. Да не посадят же нас, если мы в училище явимся только в октябре!
Второй месяц ознаменовался работами на гумне. Начался обмолот снопов хлеба. Мы так освоились с сельхозработами, что мне доверили целую смену работать подавальщиком на молотилке. Нужно было у поданного подручной женщиной снопа быстро разрезать вязку, распустить сноп и тонким слоем подать в жадную пасть молотилки. Нельзя было допустить на зубья быстро вращающегося барабана слишком толстую прядь. У меня получилось как надо. А приводом молотилки служила просто лошадка.
За два месяца мы заработали по 25 ведер картошки, что было великим подспорьем на зиму. Да и сами неплохо отъелись. Картошка осталась на хранение у хозяев в подполье. Я свою вывозил зимой на саночках за четыре рейса.
Зима 1943 – 44 годов прошла без особых событий, если не считать, что я уже стал «официальным» курильщиком (табак для меня вырастила мать в нашем огороде). Я все реже появлялся в стенах училища, так как увлекся изготовлением клеток для птиц, которых тоже сам ловил. Делал с выдумкой и не только для себя, но и продавал. Не посещая училища я, естественно, не получал и довольствия: меня лишали одежды, питания и прочих «благ». Чаще всего утром я уходил в училище, завтракал вместе со всеми, а потом уходил домой. Дома питался тем, что украл: я ловко проникал через крышу дома и слуховое окно в нашу кладовку, где хранились продукты (мать хвасталась: «Вот вернется домой Егорчик, а я все сохранила»), брал немного муки (вскоре заметил, что в ней появились черви и мне пришлось ее просеивать через сито), отрезал кусок соленой рыбы, а затем на печке-железке варил себе «болтушку», кипятил чай и пил его с шоколадной конфеткой. Брал всегда немного – только на один раз. Вот только банки с консервами не трогал, не хотел рисковать: они наверняка были сосчитаны.
Постепенно мои воровские способности повысились: я научился вскрывать сундуки (их у нас было три). Не трогая замки, а просто отодвинув нужный мне сундук от стенки, я выбивал пробой шарнира и открывал крышку с задней стороны. Я хорошо знал, где лежали канцтовары (наследство от отца), одежда, ткани и прочие ценности. Меня интересовали, в основном, писчая бумага, тетрадки, резинки-ластики, тушь, ватманская бумага (а школьники уже писали на газетах). Позднее отрезал полосу черного сукна, чтобы вставить клинья в брюки и сделать себе клеш (50 см!). Шил сам на швейной машинке.
Бывало, что не успевал (или забывал) надежно спрятать украденное и тогда мать била меня «смертным боем». Однажды, когда я убегал от ее побоев, она запустила в меня топор и он впился в доску забора (чуть-чуть не в голову!) Била она меня часто и иногда по пустякам, а я только защищался, хотя был сильнее ее.
В училище мне объявляли выговоры, грозили жесткими карами, а я сознательно жил на грани «фола», с целью выйти, минуя тюремные ворота. Из ремесленных училищ было два выхода: на производство или в тюрьму. Между прочим, брат мой Женя в Кузбассе выбрал второй путь – побег и 4 месяца заключения. Отсидев свой срок, он сразу был призван в армию, попал в 1-ю дивизию НКВД им. Дзержинского, так как по росту и телосложению вполне подходил в эту элитную воинскую часть. Воевал до Победы и вернулся домой в 1947 году.
Ранней весной 1944 года нас, пять групп учеников трех ремесленных училищ и школы ФЗО общим числом около 150 человек, погрузили на баржи, и буксирный пароход повез от Тобольска вниз по Иртышу вслед за льдом. В училище нам выдали сухой паек из расчета на десять дней – по две буханки хлеба, который мы «оприходовали» практически полностью за два: многие из нас за годы войны хлеба в таком количестве ни разу в руках не держали. Сейфов и тумбочек с замками у нас, естественно, не было, так что хранить ценнейшее продовольствие, кроме собственных желудков, было негде. А оставить без присмотра… Так что к месту назначения – на остров посередине реки близ села Демьянское – мы прибыли налегке. Остров был удален как от левого, так и от правого берегов реки на весьма приличное расстояние, а на самом острове были постройки в виде бараков, в которых до нас жили, вероятно, зэки.
Село Демьянское – районный центр – стоит на правом берегу Иртыша, в 300 км от Тобольска. С острова, на который нас высадили, села не было видно, зато хорошо были видны огромные штабеля строевого леса, который нам предстояло погрузить на баржи-лесовозы. Технология погрузки была до примитивности проста: на высокий борт баржи с суши были наклонно уложены шестиметровыве бревна (2 штуки), по которым с помощью длинных веревок нужно закатить очередное бревно. Сами мы на борт баржи поднимались по узкому длинному трапу.
С началом светового дня начиналась наша работа. Завтрака не было, так как все уже было съедено. В полдень был перерыв как бы на обед, но вместо обеда нам выдавали по соленой селедке на двоих и вдоволь воды прямо из реки. Рацион «ужина» в конце светового дня от «обеденного» не отличался. Уже на третий – четвертый день мы настолько ослабели, что начались голодные обмороки, паденья с трапа в воду, а самые слабые уже с трудом поднимались на ноги. На всю жизнь запомнилась не только красная морда начальника, но и его фамилия – Захаров. Какую должность он занимал во властных структурах – не знаю, но хорошо помню, что на нем были брюки-галифе цвета хаки с кожей на всю задницу. Нрава он был зверского, мы его люто возненавидели.
Невыносимые, практически каторжные условия работы, в сочетании с голодом, привели к тому, что сколотилась группа единомышленников из 12 человек, решившихся на побег. Мой друг Генка был отличным пловцом и глубокой ночью он вплавь добрался до левого берега, где мы еще днем заприметили небольшую лодку. На этой лодке мы двумя группами по 6 человек переправились на правый берег, заросший густым лесом. С рассветом мы начали поиски тракта, которые успехом не увенчались, и решили посоветоваться: что делать дальше? Мнения разделились и семь человек приняли решение возвращаться на остров, а пять человек, в том числе я, мой однокашник Шарков Валя и три ФЗОшницы решили продолжить поиски тракта. К вечеру мы, наконец-то, выбрались на него. Предстоял 300-километровый путь в Тобольск без продуктов, без теплой одежды, без надежды на помощь.
Мир не без добрых людей, и в деревнях люди с пониманием относились к трудному положению беглецов-подростков. Они верили нашим рассказам и как могли поддерживали нас: хлебом, картошкой, ночлегом… Совсем как в старинной песне:
Хлебом кормили крестьянским меня,
Парни снабжали махоркой…