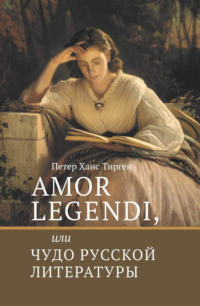
Amor legendi, или Чудо русской литературы
Обрисованные здесь композиционные элементы романа – экспозиция, развитие интриги и катастрофа, каждому из которых соответствуют четыре главы, соотносятся с композиционной структурой трехактной драмы в последовательности развития действия, смене эпизодов и динамике напряженности. Эту динамику можно описать как последовательную смену подготовки напряжения, возникновения напряжения и разрядки напряжения. Сюда же можно добавить и другие элементы, которые поддерживают трехчастность структуры и маркируют ее композиционные границы. Я назову только следующие. Экспозиции соответствует приезд Рудина в поместье Ласунской, центральной части – пребывание Рудина в поместье, а благополучной развязке финала – отъезд Рудина. Финалы каждого действия тоже четко обозначены: в главе 4 экспозиция завершена короткой встречей Рудина и Наташи, интрига развязана в главе 8 Наташиным требованием решительного объяснения с Рудиным и, наконец, глава 12 заканчивается изображением одинокого отъезда Рудина и его пути по русской провинции. Финал акта каждый раз ознаменован короткой сценой. Однако распадению романа на правильные композиционно-смысловые блоки препятствуют разнообразные перекрестные ассоциативные отсылки и общие обрамляющие элементы, о которых здесь не стоит говорить подробно. Кроме того, в романе «Рудин» на трехчастный композиционный принцип накладывается двухчастный – и в этом случае композиция романа оказывается подчинена традиционной шестеричной эпической системе: две части по шесть глав[293].
Убедительную эволюцию драматургической архитектоники демонстрирует второй роман Тургенева, «Дворянское гнездо» (1859), в котором количество соответствующих драматическому акту композиционных единиц увеличено до пяти; при этом они очерчены еще яснее, чем в «Рудине». Внешне роман разделен на 45 глав и эпилог. Его драматическую структуру можно представить следующим образом. Главы 1–7 исполняют роль экспозиции: в них обозначены время и место действия, введены действующие лица и дан эскиз взаимоотношений персонажей. Герой романа, 35-летний Федор Лаврецкий, помещик, возвратился в Россию после длительного пребывания в Европе и остановился в провинциальном городке у Марии Калитиной, вдове с двумя дочерьми. В главах 8–17 описана предыстория Лаврецкого вплоть до того момента, до которого доведено действие в главе 7. В этой экспозиции героя содержатся сведения о происхождении и образовании Лаврецкого, о его браке, о поездке в Европу и разъезде (не разводе) с изменившей ему женой. С одной стороны, эти обзорные главы как бы продолжают экспозицию, но с другой – они подготавливают тугой узел любовной интриги романа: Лаврецкого связывают с Лизой, старшей дочерью Калитиной, помолвленной с офицером Паншиным, глубокие и серьезные чувства. Они кажутся предназначенными друг для друга, их души равно благородны, а мировоззрения сходны в своей естественности. Действие глав 18–27 развернуто преимущественно в поместье Лаврецкого, куда приезжает Лиза, и где взаимные гармонично-платонические чувства героев продолжают углубляться. В финале этого композиционного блока глав Лаврецкому случайно попадается на глаза сообщение во французском журнале о смерти его жены. Таким образом развязывается узел обстоятельств, препятствовавших соединению Лаврецкого с Лизой, для которого, по – видимому, больше нет препятствий.
Главы 28–35 посвящены последовательно-постепенному развитию ситуации. Лаврецкий снимает квартиру в городе и, вторично признавшись в любви Лизе, ранее не ответившей на предложение руки Паншина, убеждается в ее взаимности; так завершается подготовка счастливого финала. Однако непосредственно вслед за этим наступает трагическая перипетия. В главе 36 абсолютно неожиданно появляется считавшаяся умершей жена Лаврецкого, и это явление разбивает все матримониальные планы, поскольку Лиза окончательно отказывает всем соперникам Лаврецкого. Тем самым перипетия завершена: Лиза уходит в монастырь, Лаврецкий, погрузившись в одинокую резиньяцию, удаляется сначала в Москву, потом в свое имение. Эпилог – это как бы ремарка под занавес: по прошествии восьми лет после романных событий повествователь возвращается к судьбам главных героев: Лиза осталась в монастыре, Лаврецкий до конца живет своей «бесполезной жизнью».
Очевидно, что композиция романа организована по структурному принципу пятиактной трагедии. Экспозицию (гл. 1–7) с ее обстоятельным вводным дискурсом легко идентифицировать как первый акт, завязку драматического действия. Следующие два композиционных блока (гл. 8–17 и 18–27), которые охватывают круг событий от фатальной предыстории Лаврецкого до сулящей счастье перспективы его сближения с Лизой, посвящены именно той перемене положения героя, к которому в классической теории драмы стремятся второй и третий акты пятиактной драмы – это так называемая динамичная подготовка интриги. Она достигает кульминации своей напряженности в момент ошибочного известия о смерти жены Лаврецкого в главе 27. В последующих главах 28–35 развернут результат подготовленной ранее интриги, объяснение в любви; эти главы соответствуют традиционному четвертому акту, поскольку сообщение о смерти жены Лаврецкого и, следовательно, об отсутствии препятствий к браку героев продолжает оставаться актуальным, и интрига своим чередом ведет как будто к счастливой перипетии. Наконец, явление мнимо умершей жены Лаврецкого (гл. 36–45) провоцирует классическую катастрофу пятого акта[294].
Выявленные в сгруппированных таким образом главах композиционные элементы романа – это «неотъемлемо-необходимые составные части действия»[295]; их перегруппировка или элиминация разрушили бы единство и поступательный ход романного действия. Функции этих элементов, каждый из которых соответствует целостному акту драмы, поддержаны, как и в романе «Рудин», дополнительными художественными средствами. Все эти композиционные блоки романа имеют приблизительно равный объем (7, 10, 10, 8 и 10 глав). Кроме того, три из пяти частей плотно связаны единством места, в котором разворачивается столь же единое действие. С другой стороны, множественные сцепления мотивов и перекрестные ассоциативные отсылки, а также повторное использование принципа двухчастной композиции, на сей раз не столь очевидной, как в предыдущем романе, предотвращают чрезмерное дробление повествования. Драматическое расположение явно, но при этом лишено жесткого формализма. Тургенев очень осознанно выстроил структуру действия и экспоненту напряжения своих первых романов по образцу драматической композиции, но это не слепое следование схеме.
Тщательно рассчитанное dispositio dramatica (драматическое расположение) является тем глубинным основанием, на котором тургеневские романы, особенно ранние, всегда оценивались исследователями как высокие образцы целостности структуры[296], обладающие «сжатой композицией»[297], ясной архитектоникой «предельной концентрации» и оптимальной «целенаправленностью»[298], «пропорциональностью всех частей»[299], драматическим сюжетосложением[300], «классическим внутренним единством формы»[301] и другими признаками специфической архитектоники драмы (см. также во вступительной части статьи). Драматическая структура, как это установлено теорией драмы еще в древности, является особенно суггестивной и для автора, и для читателя. Тургенев имел ясное представление о классической, т. е. риторической теории драмы, интерпретирующей творчество и технику драматурга как ремесло[302]. В усвоенной из древней риторики и поэтики традиции dispositio dramatica он, очевидно, нашел для своих ранних романов именно ту «данную почву», которой, по его собственному признанию, искал для своего писательства и о которой упоминалось выше.
III
Теперь зададимся вопросом, дает ли литературная теория эпохи право на подобного рода подход и интерпретацию. Для начала бросим взгляд на теоретические дискуссии о романе в России. В середине 1840-х годов Гоголь высказался о романе следующим образом:
Роман, несмотря на то, что в прозе, но может быть высоким поэтическим созданием. Роман не есть эпопея. Его скорей можно назвать драмой. Подобно драме, он есть сочинение слишком условленное. Он заключает также в себе строго и умно обдуманную завязку ‹…›. Роман не берет всю жизнь, но замечательное происшествие в жизни ‹…›[303].
Хотя это высказывание и не было опубликовано при жизни Гоголя, но по меньшей мере оно было доступно[304]. Н.П. Трушковский хотел включить его в издание сочинений Гоголя в 1856 г. Тургенев, который в ноябре 1851 г. несколько раз встречался с Гоголем незадолго до его смерти, вполне мог знать если не само высказывание, то его приблизительный смысл. В свою очередь, гоголевские представления о жанре романа могли сформироваться под влиянием Белинского[305], однако этот вопрос требует дальнейшего специального изучения.
Наряду с Гоголем и Пушкиным Тургенев считал своим наставником Белинского; он называл его «русским Лессингом» (С., XIV, 31). Но ведь именно Белинский с самого начала своей литературно-критической деятельности утверждал взаимопроникновение жанров драмы и романа. Несомненно, что роман и драма были для него главными «формами времени». Уже в 1834 г. он замечает в «Литературных мечтаниях»:
Сама эпопея от драмы занимает свое достоинство: роман без драматизма вял и скучен. В некотором смысле эпопея есть только особенная форма драмы[306].
Белинский знает, что жанры могут интерферировать, и видит в этом существенную пользу для романа. В 1841 г. он пишет:
Хотя все эти три рода поэзии [эпический, лирический, драматический] существуют отдельно один от другого ‹…›, они не всегда отличаются один от другого резко определенными границами. Напротив, они часто являются в смешанности, так что иное эпическое по форме своей произведение отличается драматическим характером, и наоборот. Эпическое произведение не только ничего не теряет из своего достоинства, когда в него входит драматический элемент, но еще много выигрывает от этого (V, 22).
Отсюда следует настолько же решительный, насколько важный вывод: верхом совершенства романного жанра является «драматический роман». Самое сильное впечатление произведет не тот роман, в котором преобладает «эпический элемент», но тот, который станет «трагедией в форме романа» (V, 25)[307]. Эту же мысль критик повторяет в 1844 г. в статьях о Пушкине: современный роман «тем больше имеет успеха, чем больше проникнут элементом драматическим» (VII, 406). Таким успехом и «безграничной силой впечатления» драматический роман, по мнению Белинского, обязан не только своему содержанию, но «строгому единству действий» и «простоте формы», благодаря лаконизму и концентрированности которых роману становится чужда усложненность и беспорядочность «в ходе и развитии события» (V, 25). Идеал романа, по выражению Белинского, зиждется на «глубоком драматическом принципе», «шекспировской драме в форме романа» (V, 28).
Эти требования Белинского соответствуют эволюции его отношения к драме и роману. Ранее он считал драму вершиной поэзии, венцом искусства[308]. Однако уже в 1842 г. он поставил роман рядом с драмой:
Мы теперь знаем, что роман и драма должны преобладать в наше время над всеми другими родами поэзии ‹…› (VI, 91).
Наконец, позже, в 1847 г. в эстетическом сознании русского критика роман возвысился над драмой:
Роман и повесть в наше время взяли литературное владение ‹…›. Роман и повесть стали теперь во главе всех других родов поэзии ‹…› (X, 102, 315).
Мы можем быть абсолютно уверены в том, что Тургенев был наилучшим образом знаком со взглядами Белинского и их модификациями. Его близкие и активные отношения с Белинским между 1843 и 1847 гг. достаточно хорошо известны; в своих «Воспоминаниях о Белинском» (С., XIV, 22–63) он воздвиг «русскому Лессингу» свой собственный памятник. Путь Тургенева к прозе, без сомнения, направляла та высокая оценка, которую великий критик дал роману – и особенно «драматическому роману»[309].
После того как мы обратились к мнениям Белинского, направим наш взгляд в Германию. Литературная теория Белинского изначально складывается под влиянием Гегеля. Статья Белинского «Разделение поэзии на роды и виды» 1840–1841 гг., предлагающая жанровую парадигму с прерогативой драмы, содержит цитаты из Гегеля, очевидные даже в тех случаях, когда они не авторизованы. Критик заимствовал их из принадлежавших М.Н. Каткову русских конспектов лекций Гегеля по эстетике, – в письме к В.П. Боткину от марта 1841 г. Белинский открыто признает, что он располагал этими выписками: «К<атко>в оставил мне свои тетрадки – я из них целиком брал места и вставлял в свою статью» (XII, 244)![310]
Тезис о главенствующем положении драмы переходит из эстетики Гегеля в умозрительную эстетику XIX в.: это особенно заметно в 1820–1850-е годы[311]. В Германии между 1839 и 1842 гг. в печати появилось более 300 драм[312]. Это декларированное, прежде всего в теории, преобладание драматического рода дало стойкий и продолжительный импульс внедрению в роман драматических структур. Подобная жанровая трансформация романа представляется тем более значимой, что для академической эстетики вплоть до Ф.Т. Фишера и многих других роман был «бесформенной формой», «незаконным» жанром или даже «жанром-гермафродитом» (Гервинус); Жан Поль и Гегель вменяли ему в вину некоторую «аморфность» и «чрезмерную пространность»[313]. Даже литераторы «Молодой Германии», для которых проза и роман были абсолютно несомненной формой времени, все еще – подобно Теодору Мундту[314] – считали драму «триумфом совершенной поэтической архитектоники»[315].
Однако необходимо принять во внимание и то, что начиная со второй половины 1840-х годов в литературной критике Германии явно возрастали требования к формальным и композиционным аспектам литературных жанров – вплоть до того, что это позволяет говорить о становлении «нового идеала формы»[316], который требовал от стилистики и поэтики жанра формальной простоты, единства, классической соразмерности и гармонии[317]. Импровизация, риторика и всякого рода формальные изыски решительно отвергались. Литературные критики журнала Густава Фрейтага[318] и Юлиана Шмидта[319] «Die Grenzboten» («Пограничный вестник») были постоянно сосредоточены на формально-композиционных аспектах структуры рецензируемых произведений и уделяли пристальное внимание их формальному совершенству. Аналогичным образом были настроены Герман Геттнер[320] и Рудольф Готтшалль[321].
С позиции критиков этого направления поэзия, как искусство, «подкрепленное техникой ремесла», непременно должна была быть правильной в версификационном отношении[322]. Она выше ценилась как порождение поддающейся изучению духовной способности, нежели как мгновенное излияние порыва гениального вдохновения. Высокими образцами литературной критики и художественности считались Лессинг и немецкие классики. Поразительно, насколько эта ориентация и эти требования немецкого реализма, имеющего классицистические истоки, сходны с вышеописанными постулатами Тургенева – вплоть до буквального совпадения формулировок. В то самое время, когда в Германии классическая категория «истинной простоты», гармонический идеал «единства» и «соразмерности» и глубокий пиетет к формальному совершенству находят своих влиятельных приверженцев, Тургенев, как никакой другой русский писатель, аналогичным образом декларирует идеал «простоты» и «гармонии», «округленности» и «обдуманности», «единства» и «меры» («чувство меры» в данном случае – это terminus technicus). В 1869 г. он пишет в письме Людвигу Фридлендеру, что «высший дар» – это «чувство меры» (das «höchste Geschenk» ist die «Gabe des Maßes»; П., VIII, 97).
Забота о формальной гармонии, соразмерности и композиционном единстве способствовала основополагающему стремлению к внедрению в роман конструктивных принципов драмы. В 1847 г. Юлиан Шмидт (атрибуция предположительная) пишет в журнале «Die Grenzboten»:
Если роман стремится достигнуть своей цели, он должен следовать законам драмы, например, тому, который всегда действует в романах Вальтера Скотта; но подлинного своего совершенства он достигает в романе Гёте «Избирательное сродство»[323].
В своей рецензии на роман Густава Фрейтага «Дебет и кредит», написанной в 1855 г., Теодор Фонтане подчеркнул:
«Дебет и кредит», как бы приятно он ни читался, написан ничуть не легко и не весело, – скорее, он написан серьезно. Мы намеренно выбираем это определение. Тот, кто увидит идеал эпического описания исключительно в наивном и захватывающем перечислении самых пестрых событий, либо заблуждается, либо просто неспособен понять, что он самым добросовестным образом заблудился. Мы обязаны этим автору. Он не «прял нить» повествования; создавая роман, он руководствовался строгими требованиями и законами драмы. Нам кажется, что это прогресс, и мы тем охотнее придаем этому большую значимость, поскольку уверены в том, что находим здесь не простую случайность, но тщательно продуманный замысел[324].
Фонтане явно усматривает основание «превосходной композиции» романа именно в «драматической школе и трудолюбии автора»[325]. Как нам известно по воспоминаниям и письмам Фрейтага, Фонтане был абсолютно прав. Перед тем как приступить к осуществлению романного замысла, Фрейтаг сознательно предпринимал работу по планированию «расположения» и «пространственной локализации» будущего произведения[326]; по поводу романа «Дебет и кредит» он ретроспективно заметил следующее:
Структура действия в каждом романе, где материал художественно проработан, будет иметь большое сходство с устройством драмы ‹…›. Элементы действия романа в основном подобны драматическим: экспозиция, развитие действия, кульминация, перипетия и катастрофа[327].
Соответствующим образом Отто Людвиг отмечал в 1860 г.: «Вообще, роман ближе к драме, чем к эпосу»[328]. В соответствии с этой аналогией будет позже интерпретироваться и повесть. В подтверждение процитирую более позднее, но тем более значительное высказывание Теодора Шторма 1881 г.:
‹…› современная новелла – это сестра драмы и самая строгая форма прозаического произведения ‹…›. То, что эпическое прозаическое произведение достигло здесь своего апогея и восприняло уроки драмы, объяснить нетрудно[329].
Это признание приоритета романа перед драмой означает размежевание с эстетикой Гегеля и возвращение к романтизму. Характерный для романтизма жанровый синтез подготовил интерференцию романа и драмы[330] – именно романтическая эстетика постоянно усматривала аналогии в жанровых структурах романа и драмы, и с тех пор понятие «драматического романа» (равно как и «романа-трагедии») – в качестве антитезы понятию «эпический роман» – входит в арсенал теории романа и литературной критики XIX столетия. Соответствующие высказывания и их вариации изобильно представлены в эстетике Жан Поля, Новалиса, Гёте, Шеллинга, К.В.Ф. Зольгера и др.[331] Гердер и Фридрих Шлегель считали шекспировские трагедии синтезом классической трагедии и романа[332]. Соответственно, современные романы в эволюции жанра от Вальтера Скотта до Отто Людвига и Густава Фрейтага интерпретируются как образцы «драматического романа», обладающего «хорошо скроенной романной формой»[333]. Идеал «драматического романа» был актуален, как это установил Ф. Зенгле, «для всех романистов эпохи бидермейера»[334].
Однако аналогия роман-драма эпох романтизма и бидермейера не предлагает ничего принципиально нового. Параллелизм романа и драмы можно отчетливо наблюдать с середины XVIII столетия[335]; более ранние эпохи, в частности барокко, тоже дают богатый материал[336]. Тем не менее мы не хотим подробно углубляться в эту предысторию, поскольку представленные здесь соображения и факты дают достаточное представление об интересующем нас явлении.
* * *Перейдем к итогам. Когда Тургенев после 1850 г. начал вырабатывать «новую манеру» и обратился к большой прозаической форме, жанра современного «большого» романа в русской литературе еще не было. Несмотря на эксперименты Герцена, Гончарова или Панаева, Тургенев не мог ориентироваться на удовлетворяющие его представлениям русские образцы, которые были бы эквивалентны соответствующим западноевропейским жанровым моделям. Национальные русские писатели тоже не могли дать нужного ему примера: Пушкин написал «роман в стихах», Гоголь «поэму в прозе», и даже роман Лермонтова «Герой нашего времени» распался на почти самостоятельные новеллы. В этой ситуации концепция «драматического романа» давала нужные представления об искомой жанровой модели. Тургенев был наилучшим образом подготовлен к восприятию этой теории. Он имел основательный опыт работы в драматическом роде и в своем литературном труде придавал большое значение технике ремесла.
Dispositio dramatica было идеальным средством для облегчения перехода от драмы к роману. В рамках этого постулата тургеневский эстетический идеал экономии выразительных средств мог стать таким же действенным, как и его убеждение в том, что каждая человеческая судьба «трагична» (П., III, 354). Кроме того, эта метода обеспечивала возможность театрализации повествования и свободу использования законов построения драматического действия: здесь достаточно напомнить о пристрастии Тургенева к драматизированной диалогической форме и драматичным сценам расставания[337]. Драматической поэтике совершенно соответствует и типичный характер тургеневского психологизма, переносящего акцент с развития характеров на их постепенное самораскрытие в движении действия к перипетии и катастрофе, что тоже является драматургическим по своей природе приемом[338]. Не случайно его романы уже в XIX в. начали периодически перерабатываться в пьесы или даже оперные либретто.
Драматургичность архитектоники тургеневских романов является коренным основанием, на котором П.А. Кропоткин, чье суждение стало квинтэссенцией многих аналогичных мнений, увидел в их структуре «строгую архитектуру средневекового собора», «совершенство архитектуры романа» вообще[339]. С другой стороны, возможно, именно эта устойчивая структурная схема вызвала критический отзыв Толстого, упрекнувшего Тургенева – так же как это сделал Штифтер в отношении Фрейтага – в искусственности и деланном артистизме.
Интимное знание фундаментальных законов построения драмы должно было с самого начала направить тургеневское внимание на теорию «драматического романа». Побудительными импульсами к углубленному осмыслению этой теории стали, без сомнения, эстетические взгляды Белинского и вышеописанная дискуссия о романе в Германии середины XIX в. Конечно, степень осведомленности Тургенева в частностях этой немецкой дискуссии, как и западноевропейской вообще, необходимо было бы изучить более основательно. Однако не подлежит сомнению то, что ему было известно многое. Его знание языков, эрудиция и обширные контакты с Западной Европой говорят сами за себя; он называл себя вечным западником, а Германию считал своей второй родиной. Ни один русский писатель не знал историю немецкой литературы и литературной критики лучше, чем он.
Именно в 1850-е годы он снова и снова сообщает о том, что много читает[340], хорошо известен и его оживленный интерес к самым новым литературным теориям[341]. Позже его связали близкие дружеские отношения с Юлианом Шмидтом, он был знаком с Густавом Фрейтагом[342]. В любом случае нужно отметить, что первые «драматические» романы Тургенева написаны практически синхронно с романом Фрейтага «Дебет и кредит» (1855) и его же теоретическим трактатом «Техника драмы» (1863). Очевидное типологическое и генетическое родство в этом случае вряд ли можно проигнорировать.
Тургеневская теория строгого формального идеала и его практика драматического романа питаются, таким образом, из трех источников, которые сливаются и усиливают друг друга в эстетическом сознании писателя. Первый из них – это его собственная «автохтонная» поэтика, которая с середины 1840-х годов все более очевидно формируется в отказе от философии и в постоянно интенсифицирующемся обращении к литературе. Второй – его изучение наследия немецких классиков и романтиков. Здесь нужно назвать, прежде всего, поэтику строгой формы Шиллера и романтическую доктрину драматического романа. Третий – это возрождение классических традиций в немецкой литературе 1840–1850-х годов, вновь вызвавших к жизни теорию драматического романа. Органическая связь всех трех источников и подготовила ту почву, на которой выросли ранние тургеневские романы.
«Леди Макбет Мценского уезда» Н.С. Лескова и «злая воля» А. Шопенгауэра
I. Предварительные замечания и тезис
Повесть Лескова, при первой ее публикации подписанная псевдонимом «М. Стебницкий» и сопровожденная жанровым подзаголовком «очерк», увидела свет в 1865 г. в январском номере журнала братьев Достоевских «Эпоха» под названием «Леди Макбет нашего уезда»[343]. Эту первую редакцию Лесков впоследствии неоднократно перерабатывал, причем объем авторских дополнений в совокупности достигает четырех-пяти печатных страниц. Переработки не касаются основного сюжетного пласта текста, однако они существенно распространяют диалогические фрагменты повести и дополняют авторское повествование в той его части, которая связана с прямыми и косвенными характеристиками персонажей, а также заметно углубляют авторский комментарий событий. При этом некоторые варианты правки имеют тавтологический или прямолинейно-уточняющий характер, в результате чего первая редакция повести не только оказывается более компактной, но и представляется обладающей более сильным эмоциональным воздействием, нежели ее дефинитивный текст. Однако отказ от печатания вариантов повести в современной эдиционной практике публикации текстов Лескова делает невозможным анализ ее творческой истории в том, что касается конкретно истории ее текста[344].