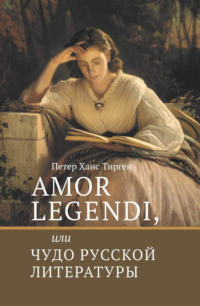
Amor legendi, или Чудо русской литературы
О.Л. Фундамент культуры – это язык, родной или иностранный. Наблюдаете ли Вы регресс культурного и языкового сознания?
П.Т. Да, к сожалению. Во всем мире даже родной язык теряет свое былое достоинство. Монополия английского языка обходится нам слишком дорого. Почему даже в России нужно говорить англицизмами, такими как «грант», «ивент», «дизайн», «перформанс», «хэппенинг», «кэшбек», «селфи», «хакер», «ноу-хау» и проч.? Весь их смысл в том, что они суть зеркало свирепствующих во всем мире инфантилизма, нарциссизма и одичания общества – во всех странах. Это, конечно, не лучший аргумент, но мне кажется, что это результат целенаправленной кампании. У частного предприятия Фейсбук 3 млрд пользователей! В цифровом пространстве технологии могут быть очень современными, но они часто облекают вполне архаические смыслы – стадный инстинкт, корпоративную ненависть, безнаказанность анонимности и проч. Это попрание коренной основы демократии – упорядоченного разделения власти.
О.Л. Не значит ли это, что мы должны уделять больше внимания языковому сознанию и любви к чтению?
П.Т. Да, безусловно. Книгочей Тургенев воздал хвалу «великому, могучему, правдивому и свободному русскому языку». Энтузиаст чтения Набоков считал, что только перечитывание может быть творческим чтением. В одном из писем 1873 г. Тургенев заметил: «Je ne lis plus – je relis»[34]. А сегодня романы «Анна Каренина» и «Братья Карамазовы» предлагаются читателям в «сокращенном варианте». В Германии есть издания типа «Достоевский для торопливых». Классику читают мимоходом. Чахнущая способность к чтению – это ужасная утрата культуры. Старая пословица гласит: «Чем больше знаешь языков, тем больше проживаешь жизней».
О.Л. Как Вы относитесь к цифровым технологиям?
П.Т. Некогда культурной революцией было изобретение книгопечатания, в наше время – это цифровые технологии: по-моему, очень амбивалентное явление. Мы вступаем в эпоху роботов и автоматизации, искусственного интеллекта, конструктивных наук и, возможно, детей-конструкторов. Человек окончательно сделался «лишним». Я вижу в этом большую угрозу и завышенное требование. Человек раскалывается на множество ипостасей: homo digitalis (человек цифровой), homo oeconomicus (человек экономический), homo politicus (человек политический), homo ludens (человек играющий), homo faber (человек ремесленник) и т. д. – как будто никогда не существовало идеалов калокагатии, «цельного человека», «прекрасной души», истинной учености. Цифровые методы вооружают компетенцией, но они не могут дать образования. Тот, кто слишком полагается на искусственный интеллект, бежит от ответственности. Дидактизирование всегда осуществляется за счет смысла и самостоятельного размышления. Я боюсь диктатуры средств массовой информации и бездарно губящей время жизни страсти к виртуальному пространству. Цифровые гуманитарные науки (Digital Humanities – еще один англицизм!) – это прикладные, а не фундаментальные науки. Большие данные (Big Data) и цифровая индустрия поглощают огромное количество энергии, следствием чего является эмиссионный ущерб. Наконец, цифровые технологии убили эпистолярное искусство и рукописное письмо. Тщательность рукописного писания и связь мыслей неотделимы друг от друга.
О.Л. Не стали ли Вы пессимистом?
П.Т. Лишь отчасти. Пессимист говорит, что стакан наполовину пуст, оптимист считает, что он наполовину полон. Цифровые технологии и искусственный интеллект, наряду с опасностью дегуманизации, открыли перед человечеством новые возможности (например, в медицине и экономике) и позволили повысить эффективность и объективность в самых разных областях деятельности. История свидетельствует о том, что во всех новациях есть свои «за» и «против», что надежды на лучшее будущее и апокалипсическое отчаяние периодически сменяют друг друга. Человек временами держится прямо, временами – горбит спину. Таким образом, он и homo erectus (человек прямоходящий), и homo incurvatus (человек согбенный). Когда я впадаю в пессимизм, я читаю классиков и русскую литературу – и мне становится лучше, я становлюсь «счастливым скептиком» или «радостным меланхоликом». Если угнетенность слишком сильна, нужно «сажать свою яблоньку» (Лютер) или «возделывать свой сад» (Вольтер). Красота женщин и музыка тоже помогают, как и все прекрасное. «Человек бывает вполне человеком лишь тогда, когда играет» (Шиллер).
О.Л. Но разве литература не игра? Игра словом, формой, образами, ритмами, многообразием возможных ассоциаций и интерпретаций? Разве «как сказано», т. е. форма выражения мысли в изящной словесности, не отличается от форм выражения в философских, теологических или историографических текстах? Разве композиция, поэтика и нарратив в художественных текстах не важнее, чем в любых других?
П.Т. Да, конечно. Здесь следует говорить о специфике мотива и лейтмотива – как в музыке. Это характерная особенность, differentia specifica художественной литературы. Один из тезисов Квинтилиана гласит: «Scribitur ad narrandum, non ad probandum» («Пишут, чтобы рассказать, а не доказать»). В своем «Предисловии [к собранию романов]» Тургенев заметил: «В деле искусства вопрос: как? – важнее вопроса: что?» Такого рода высказывания многим кажутся своего рода petitio principii[35]. «Пробные существа» Достоевского продолжают оставаться предпосылками великой литературы. А вот Сенека сказал коротко и ясно: «Quaere quid scribas, non quemadmodum» («Спрашиваю, что ты можешь написать, а не как»; Ad Luc., 115).
О.Л. Вы любите греческие и латинские изречения. А понятны ли они современному читателю?
П.Т. Большинству – нет, и даже университетскому[36]. Но тем не менее отступать нельзя. В этом я старомоден, я laudator temporis acti («Хвалитель былых времен»; Гораций «Наука поэзии»). В этом я солидарен с Тургеневым, который, как известно, хотел стать профессором философии и в письме от сентября 1871 г. к А.А. Фету писал: «Я вырос на классиках и жил и умру в их лагере». Мой самый главный лагерь – древние греки и римляне, их наследники в философии и литературе, а также великие русские писатели. «Опавшие листья» могут стать великолепной почвой и питательной средой. Вячеслав Иванов, ученик Теодора Моммзена, думал так же.
О.Л. Вы читаете сейчас иначе, чем раньше? С бóльшим или вообще с другим пониманием?
П.Т. На протяжении десятилетий я сделал два важных наблюдения. С одной стороны, я накопил довольно много знаний – профессиональных, так что я могу более квалифицированно, чем раньше, обращаться с анализируемыми текстами. Правда, здесь всегда есть опасность эффекта своего рода «дежавю». С другой стороны, все читатели и исследователи замкнуты в пределы «герменевтического круга». И к тому же чем старше человек становится, тем более ему внятна мудрость Сократа «Scio me nihil scire» («Я знаю, что ничего не знаю»). Почитатель Сократа Чехов – и к тому же медик – многократно варьирует это изречение, заканчивая драму «Три сестры» восклицанием: «Если бы знать, если бы знать!» Опытные медики – лучшие знатоки человеческой природы и великолепные писатели (Шиллер, Чехов, Шнитцлер, Каросса, Бенн, Дёблин, Вересаев, Булгаков). В начале 1890-х годов Чехов записал в дневнике: «Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть». Как читатель я ожидаю от писателя глубокого знания людей.
О.Л. Медицинская методика зиждется на категориях анамнеза, диагноза и прогноза. Насколько важна метода в занятиях литературой?
П.Т. В научной парадигме она обязательна. С другой стороны, нельзя слишком увлекаться анатомическими рассечениями и анализом. В 1966 г. американская исследовательница Сьюзен Зонтаг опубликовала несколько провокационную работу под названием «Против интерпретации» («Against Interpretation»). Спустя несколько лет, в 1970 г. вышла знаменитая книга Пола Фейерабенда «Против метода» («Against Method»). Чрезмерный академизм и абстрактное теоретизирование скорее препятствуют пониманию текста, нежели ему способствуют. В любом случае произвольная установка на импровизацию – что-то да выйдет – не должна становиться популярной. Лучшее начало исследования – это низкий взлет, который, возможно, приведет к высокому полету. Интерпретация иногда может стать чем-то вроде развеселого похоронного бюро. Сьюзен Зонтаг предупреждала об опасности «умерщвления интерпретацией».
О.Л. По-Вашему, как человек становится ученым?
П.Т. Когда он своими силами преодолевает лестницу ступенька за ступенькой, а не возносится сразу вверх на лифте покровительства. И бесплатных билетов в науку тоже не бывает. Наука – это не работа, за которую получаешь зарплату, это отношение к профессии как к призванию: именно оно определяет настоящего ученого.
О.Л. Как Вы считаете, как нужно писать?
П.Т. Девиз Шопенгауэра гласит: «Сначала думать, потом писать». У многих авторов это как раз наоборот. К тому же, нужно писать о чем-то, а не зачем-то, например, только затем, чтобы написать. Это высокий идеал. Я пытаюсь к нему приблизиться. Шопенгауэр считал, что быть оригинальным крайне сложно. Он часто цитировал стих Гёте «Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren» («Начавши говорить, начнешь и ошибаться»). Это же предупреждение можно найти в стихотворении Тютчева «Silentium!»: «Мысль изреченная есть ложь». Что за зловещее пророчество для каждого пишущего!
О.Л. Говорят, что когда знание наталкивается на предел, нужна вера, для того чтобы сохранить оптимизм и надежду.
П.Т. Человек всегда ищет путей, ведущих к спокойствию и спасению – это его право. Но одними лишь разумом и рассудком всего на свете не понять: ни войны, ни смертного греха, ни удара судьбы, ни случая, ни утраченной любви, ни чуда природы. Хрустальных дворцов «эвклидовского разума» недостаточно для понимания мира. Наверное, Достоевский воспринял бы эпоху цифровых технологий и алгоритмов как тотально-рациональный ад. Тютчев, как известно, заметил, что «в Россию можно только верить».
О.Л. Вплоть до недавнего времени Россия, Германия или Англия были естественно-патриотическими пространствами. Как Вы полагаете, глобализация и мультикультурность не обесценивают ли национальное государство и его самоидентичность?
П.Т. Глобальная мультикультурность – это одновременно и шанс, и опасность. Уже в эпоху Просвещения сформировались основополагающие концепты всемирной истории, мировой литературы и прав человека. В то же время Кант и многие другие мыслители были убеждены в том, что человек постоянно находится под угрозой «коренного зла» и как минимум слабоволия. Способности к самосовершенствованию всегда сопутствует способность к саморазрушению. Этих же взглядов придерживались многие русские писатели. Отними у человека его культурную, языковую, локальную идентичность – подведешь мину под его стабильность. Родина и родной язык – это великое благо, особенно тогда, когда все вокруг так непрочно и подвержено колебаниям и распаду. В любом случае истинная образованность – это толерантность, готовность учиться, культурная открытость и способность к компромиссам. Понятие «университет» уже в своей внутренней форме несет сему всеобщности. Всеобщее – это конкурент и антитеза унификации и монополии частных суждений. Человек всегда стоит между своей национальной идентичностью и мировым гражданством.
О.Л. А есть ли сейчас университеты alma mater, сохранившие академическое достоинство и былую роль своего рода «инкубатора» истинно образованных и индивидуальных личностей?
П.Т. Мне кажется, что эта традиция постепенно утрачивается. В университетах Германии обучаются около 3 млн студентов по примерно 18 тыс. направлений подготовки (что требует больших финансовых затрат). Выпускники университетов – это по большей части так называемый прекариат без определенных профессиональных перспектив: в особенной мере это относится к гуманитарным наукам. У нас это называют «академическим безумием». Речь идет, как правило, о частичном образовании, которое дает так называемые ключевые компетенции и все реже – о формировании характера и индивидуальности. Руководство университетов – это, как правило, технократы и «аппаратчики»[37], а не крупные ученые или люди с твердым характером. Вообще, все чаще в среде университетской профессуры встречаются так называемые ТТТ-профессора (атрибуты: кроссовки, футболка и аккаунт Твиттер)[38], оперирующие модными псевдотерминами типа «кросс-медиальность» или «концептуальная обоснованность». С другой стороны, студенты – выпускники гимназии – в некоторой своей части вообще неспособны учиться и нуждаются в пропедевтической подготовке к обучению в университете. К этому можно добавить враждебные духу университета влияния – уравниловка, крайняя снисходительность в оценке знаний, плагиат, отмена обязательного присутствия на занятиях и невыразимая «политкорректность», чреватая опасностью промывания мозгов. Справедливое требование равенства стартовых возможностей все чаще подменяется иллюзорным представлением о равенстве результатов. В итоге все это оборачивается массовым производством посредственности и извращает представление о миссии университета. Очень многие студенты не заканчивают образование. В качестве диплома они получают справку об обучении. Но образование – это ведь процесс длиной в жизнь.
О.Л. Это негативные аспекты. Но у каждой медали есть две стороны. Несомненно, существуют и позитивные новации?
П.Т. Конечно, они существуют, и хорошо, что Вы об этом спрашиваете. Я назову лишь равноправие женщин, возможность получить второе образование, возросший стипендиальный фонд, гибкость экзаменационных сроков, расширение сети библиотек, огромное количество возможностей для проведения конференций и приглашения ведущих ученых, право студентов принимать участие в решении академических вопросов, программы семинаров, оживленный международный академический обмен – можно назвать еще и многое другое. Эти преимущества идут на пользу главным образом тем, кто уже сам по себе отличается трудолюбием, жаждой знаний и самостоятельностью мышления. Успех сужден тем, у кого есть внутренняя мотивация – тогда внешние поощрительные мероприятия приносят пользу и открывают дорогу к успеху. Многие студенты и аспиранты демонстрируют впечатляющие успехи, в том числе многие молодые женщины. Кстати сказать, у нас даже существует одна из самых престижных немецких премий – учрежденная Фондом Гумбольдта премия имени Софьи Ковалевской, присуждаемая женщинам-ученым.
О.Л. Значит, дело обстоит не так уж плохо?
П.Т. Университеты меняются, иногда в лучшую сторону, иногда в худшую, иногда непонятно в какую. Ламентации по поводу «академической запущенности» звучали всегда. Раньше нерадивых, непочтительных студентов запирали в карцер. Обо многом из того, что мы сегодня критикуем, почти за 100 лет до нас написал вышеупомянутый немецкий философ Карл Ясперс в своей работе «Идея университета» («Die Idee der Universität», Берлин, 1923). Он жаловался на утрату высокого идеала университета и пренебрежение воспитанием и образованием индивидуальной личности. Его кредо гласит: «Идея университета живет только в личностях». Вместо этого, как он считал, университетом правят бюрократия, школярство и уравниловка, в результате чего в нем господствует убожество. Настоящий университет нуждается не только в свободе исследования и преподавания, но и в свободе учения. К чему ведет утрата этой свободы, показали фашизм и сталинизм – и не только тем, что при этих режимах сжигались книги. Сегодняшнюю опасность я вижу в уравниловке и безразличности. Но с другой стороны, за каждым падением следует подъем, любая разруха заканчивается «перестройкой».
О.Л. Своим опытом Вы обязаны немецкой и швейцарской университетской науке. Что Вы скажете о «русской русистике»?
П.Т. Мои учителя в науке всегда настаивали на корпоративной солидарности поверх любых границ, пусть и с элементами критики. Преданность науке везде может дать великолепные результаты. Я восхищаюсь такими изданиями, как «Полное собрание русских летописей», различными сводными каталогами или большими академическими и научными изданиями русских классиков – в том числе собраниями сочинений Гоголя и Жуковского, серийными изданиями РАН (ранее АН СССР), такими как «XVIII век», «Международные связи русской литературы», полновесными словарями, периодическими изданиями и справочниками (маленький пример – «Словарь иноязычных выражений и слов» Бабкина и Шендецова), великолепными монографиями – мы растем на них. Выше я назвал имена великих русских филологов. «Русская русистика» – это почва, которая питает нашу славистику, хотя, конечно, в ней были и есть идеологически обусловленные лакуны. Я с тревогой вижу, что в России, как и в Европе, традиционная филология и классическая эрудиция отодвинуты на второй план модной культурологией. Науке вредна банальность. Одно только знание русского языка еще не делает хорошим русистом.
О.Л. У Вас очень возвышенные представления об образовании. Не слишком ли это элитарная позиция?
П.Т. Да, за этим стоят некоторые притязания и определенные представления о должном человеческом облике. И здесь я вижу родственность классических русской и немецкой традиций. Немецкое слово Bildung соответствует русскому слову «образование» (возможно, это калькированное заимствование), и оба они восходят к понятию Bild – «образ». Немецкое Bildungsministerium совершенно соответствует русскому «министерство образования». Одно из новейших изданий РАН называется «Человек: образ и сущность». Большинство других языков не имеет такого точного эквивалента слову Bildung: ему соответствуют слова paideía (греч.), cultura/culture (итал./фр.) или education (англ.). Мне нравится думать, что русское и немецкое языковое сознание одинаковым образом воплотили в этом понятии целостное и идеальное представление о человеке: «gebildeter Mensch – образованный человек». Разумеется, это рассуждение не является отражением реальности. Провозглашенный и реализованный идеал – это разные вещи. И немцы, и русские это знают. Обе нации склонны и к идеализму, и к утопии.
О.Л. Разве идеализм не обречен на крушение?
П.Т. Жуковский и другие русские поэты знали, любили и переводили стихотворение Шиллера «Der Pilgrim» («Путешественник»). Его последняя строфа гласит:
И во веки надо мноюНе сольется, как поднесь,Небо светлое с землею…Там не будет вечно здесь.Вновь и вновь русская литература восклицает что-то подобное, разрываясь между романтической иронией и экзистенциальным отчаянием: «Не он! Не он!», «Все не то, чем кажется», «все неправда», «времени больше не будет», «все это как-то нелепо», «но не об этом», «решительно ничего не пойму», «Пускай! все равно!» и т. п. Мы говорили о том, что очевидность может вводить в заблуждение. В повести Чехова «Скучная история» юная Катя спрашивает старого профессора, что ей делать, и он отвечает: «По совести, Катя: не знаю…» Нас окружают слухи, ложь, заблуждения и незнание. Об этом писали Лев Аннинский, Б.Ф. Егоров и многие другие. Циничная поговорка «Mundus vult decipi, ergo decipiatur» («Мир желает быть обманутым, пусть же он будет обманут») известна и многократно цитировалась в России. Так что в порядке противовеса – хотя бы иногда – давайте будем «реалистическими идеалистами».
О.Л. И последний вопрос. Вы издавна предпочитаете духовное путешествие физическому перемещению в пространстве. Мудрый Герман Гессе однажды написал: «Но только тот, кто с места сняться в силах, // Спасет свой дух живой от разложенья». Вас не беспокоят такие мысли?
П.Т. Да, конечно. Уже древние знали, что «Gravissimum est imperium consuetudinis» («Привычка – самая тяжкая диктатура», Публилий Сир). Гоголь прозорливо писал о «бесчувственной привычке». Я еще не отказался от мысли посвятить истории этого понятия специальное исследование (возможно, в порядке самолечения). За время моей профессиональной активности я выступал с докладами в дюжине стран, в том числе и в России, на пяти различных языках. Это было обычным «академическим паломничеством» (peregrinatio academica). Однако в стилевой и эвфонической безупречности речи, как правило, можно быть уверенным, только говоря на родном языке. А сегодня немецкие профессора в немецких университетах читают лекции о немецкой литературе на английском языке. Поразительная капитуляция перед так называемой политкорректностью, которой я не намерен следовать. Кроме того, у меня аэрофобия.
О.Л. Значит, Вам достаточно «полета мысли»?
П.Т. Да, но с некоторым осадком нечистой совести. И без того уже ко мне неприменимо прекрасное изречение: «В России надо жить долго». Я, однако, утешаюсь тем, что и stabilitas loci (домоседство) – это большое благо, способствующее vita contemplativa (созерцательной жизни). Замечательный Эпикур полагал, что жить надо незаметно, скрыто (Láthe biósas). Эту мысль развила немецкая поэтесса Улла Хан в сборнике лирических стихотворений «Сад Эпикура» (Штутгарт, 1995). Сенека в «Нравственных письмах к Луцилию» требовал: «Animum debes mutare, non caelum» («Но менять тебе надо не небо, а душу!»)[39]. Кажется, это Паскаль заметил, что несчастья человека происходят от того, что никто больше не хочет оставаться в своей комнате. Кант почти никогда не покидал своего Кенигсберга. Чеховские три сестры не уехали в Москву – на самом деле, они этого и не хотели. В одном из писем Чехова к Билибину от февраля 1886 г. находим такое иронично-макароническое высказывание: «Намерения были благие, а исполнение вышло плохиссимое». Когда старого Ферапонта спрашивают, бывал ли он в Москве, он отвечает: «Не был. Не привел Бог». Но все эти цитаты, конечно же, отчасти отговорки. Зато я тем больше радуюсь, когда приезжают ко мне. Ну, и кроме того, и поэты, и любители литературы – все по-своему Иваны Бездомные, в том смысле, что книги – их «портативная родина» – способны унести их далеко за пределы домашнего и отечественного пространства. Подобная «бездомность» помогает преодолеть статику и узость взглядов. Парадоксалисты Достоевского живут повсюду.
О.Л. Бог даст, мы продолжим наш диалог в Томске?
П.Т. Многоуважаемая Ольга Борисовна, благодарю Вас за нашу «родовспомогательную беседу». А в Томске, даст Бог, мы утолим не только жажду знаний. За бокалом вина мы вспомним Александра Сергеевича.
Часть I. История русской литературы
Стихотворная эпопея М.М. Хераскова «Россияда» – русская «Энеида» или бастард псевдоклассицизма?
Даже так называемый образованный гражданин, более или менее начитанный, вряд ли много знает о влиянии римско-латинской традиции на русскую культуру. Разумеется, православная империя была связана более с греко-византийским, нежели с латинским культурным ареалом. Соответственно, русская история знала периоды, когда эпитет «латинствующие» имел обличительный смысл в отношении любого генетически римского, т. е. римско-католического, культурного явления и вообще латыни. Тем не менее определенный латинский субстрат в русской культуре присутствует – об этом свидетельствуют этимологические словари или специальные справочные издания недавнего времени, такие, например, как «Латинское наследие в русском языке»[40]. И если Пушкин в романе «Евгений Онегин» заметил, что «Латынь из моды вышла ныне» (гл. I, стрф. 6), это должно означать нечто прямо противоположное – а именно то, что латинский язык был некогда обязательным предметом общеобразовательной программы.
В восточнославянском культурном ареале латынь приобрела статус языка науки и просвещения по меньшей мере начиная с эпохи барокко и классицизма. В основанных тогда новых академиях и университетах (Московский университет был открыт в 1755 г.) лекции зачастую читались на латыни еще и по той причине, что многие профессора были выходцами из Западной Европы. И хотя православие больше тяготело к грекофилии, оно не могло воспрепятствовать растущему интересу к латыни, римским писателям, латинским Отцам Церкви, а также средневековым и относящимся к Новому времени латинским трактатам, даже невзирая на неоднократное индексирование[41] подобных трудов – вплоть до 1917 г. количество русских переводчиков с латинского языка неуклонно возрастало, и повлекший за собой тяжелые культурные последствия «обвал» русской классической филологии (т. е. науки об Античности) случился только после Октябрьской революции[42].
О том, что Roma aeterna, Вечный Рим, проник в Россию пусть даже окольным путем через Константинополь, свидетельствуют формула и соответствующая ей идеологема «Москва – третий Рим» (начало XVI в.). Позже возник вариант этой формулы: «Москва – второй Рим». Восточнославянские авторы, например Феофан Прокопович, писали свои научные труды на латыни и называли их «De arte poetica» или «De arte rhetorica». Русское пристрастие к скабрезной соленой шутке породило своего рода поэтическую «порнократию», излюбленным чтением и источником поэтического вдохновения которой были римско-латинские erotica et obscena – эта традиция тянется от Ивана Баркова до национального русского поэта Александра Пушкина: все они следовали девизу naturalia non turpia («что естественно, то не безобразно»). Довольно часто они пользовались французскими подражаниями или переводами-посредниками. Ни в царской России, ни в Советском Союзе такого рода тексты не могли быть опубликованы без цензурных изъятий. Только начиная с эпохи перестройки закончилось время editiones castratae (оскопленных изданий). Было бы очень полезно посвятить специальное свободное от табуированных тем исследование «подпольной» русской рецепции Тибулла, Катулла, Овидия, Марциала, Ювенала и проч.