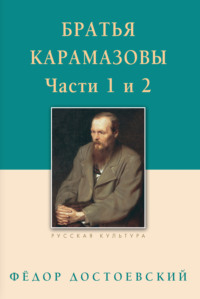
Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпилогом. Части 1, 2
– Из простонародья женский пол и теперь тут, вон там, лежат у галерейки, ждут. А для высших дамских лиц пристроены здесь же на галерее, но вне ограды, две комнатки, вот эти самые окна, и старец выходит к ним внутренним ходом, когда здоров, то есть все же за ограду. Вот и теперь одна барыня, помещица харьковская, г-жа Хохлакова, дожидается со своею расслабленною дочерью. Вероятно, обещал к ним выйти, хотя в последние времена столь расслабел, что и к народу едва появляется.
– Значит, все же лазеечка к барыням-то из скита проведена.
Не подумайте, отец святой, что я что-нибудь, я только так. Знаете, на Афоне, это вы слышали ль, не только посещения женщин не полагается, но и совсем не полагается женщин и никаких даже существ женского рода, курочек, индюшечек, телушечек…
– Федор Павлович, я ворочусь и вас брошу здесь одного, и вас без меня отсюда выведут за руки, это я вам предрекаю.
– А чем я вам мешаю, Петр Александрович. Посмотрите-ка, – вскричал он вдруг, шагнув за ограду скита, – посмотрите, в какой они долине роз проживают!
Действительно, хоть роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних цветов везде, где только можно было их насадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. Цветники устроены были в оградах церквей и между могил. Домик, в котором находилась келья старца, деревянный, одноэтажный, с галереей пред входом, был тоже обсажен цветами.
– А было ль это при предыдущем старце, Варсонофии? Тот изящности-то, говорят, не любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол, – заметил Федор Павлович, подымаясь на крылечко.
– Старец Варсонофий действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупостей. Палкой же никогда и никого не бивал, – ответил монашек. – Теперь, господа, минутку повремените, я о вас повещу.
– Федор Павлович, в последний раз условие, слышите. Ведите себя хорошо, не то я вам отплачу, – успел еще раз пробормотать Миусов.
– Совсем неизвестно, с чего вы в таком великом волнении, – насмешливо заметил Федор Павлович, – али грешков боитесь? Ведь он, говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. Да и как высоко цените вы их мнение, вы, такой парижанин и передовой господин; удивили вы меня даже, вот что!
Но Миусов не успел ответить на этот сарказм, их попросили войти. Вошел он несколько раздраженный…
«Ну, теперь заране себя знаю, раздражен, заспорю… начну горячиться – и себя и идею унижу», – мелькнуло у него в голове.
II Старый шут
Они вступили в комнату почти одновременно со старцем, который при появлении их тотчас показался из своей спаленки. В келье еще раньше их дожидались выхода старца два скитские иеромонаха, один отец-библиотекарь, а другой – отец Паисий, человек больной, хотя и не старый, но очень, как говорили про него, ученый. Кроме того, ожидал, стоя в уголку (и все время потом оставался стоя), молодой паренек, лет двадцати двух на вид, в статском сюртуке, семинарист и будущий богослов, покровительствуемый почему-то монастырем и братиею. Он был довольно высокого роста, со свежим лицом, с широкими скулами, с умными и внимательными узенькими карими глазами. В лице выражалась совершенная почтительность, но приличная, без видимого заискивания. Вошедших гостей он даже и не приветствовал поклоном, как лицо им не равное, а, напротив, подведомственное и зависимое.
Старец Зосима вышел в сопровождении послушника и Алеши. Иеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословившись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, и у каждого из них попросил и для себя благословения. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как вседневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. Миусову, однако, показалось, что все делается с намеренным внушением. Он стоял впереди всех вошедших с ним товарищей. Следовало бы, – и он даже обдумывал это все вчера вечером, – несмотря ни на какие идеи, единственно из простой вежливости (так как уж здесь такие обычаи), подойти и благословиться у старца, по крайней мере, хоть благословиться, если уж не целовать руку. Но увидя теперь все эти поклоны и лобызания иеромонахов, он в одну секунду переменил решение: важно и серьезно отдал он довольно глубокий, по-светскому, поклон и отошел к стулу. Точно так же поступил и Федор Павлович, на этот раз как обезьяна совершенно передразнив Миусова. Иван Федорович раскланялся очень важно и вежливо, но тоже держа руки по швам, а Калганов до того сконфузился, что и совсем не поклонился. Старец опустил поднявшуюся было для благословения руку и, поклонившись им в другой раз, попросил всех садиться. Кровь залила щеки Алеши; ему стало стыдно. Сбывались его дурные предчувствия.
Старец уселся на кожаный красного дерева диванчик, очень старинной постройки, а гостей, кроме обоих иеромонахов, поместил у противоположной стены, всех четверых рядышком, на четырех красного дерева, обитых черною сильно протершеюся кожей стульях. Иеромонахи уселись по сторонам, один у дверей, другой у окна. Семинарист, Алеша и послушник оставались стоя. Вся келья была очень не обширна и какого-то вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много икон – одна из них Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Перед ней теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его Mater dolorosa[5] и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках. Было несколько литографических портретов русских современных и прежних архиереев, но уже по другим стенам. Миусов бегло окинул всю эту «казенщину» и пристальным взглядом уперся в старца. Он уважал свой взгляд, имел эту слабость, во всяком случае в нем простительную, приняв в соображение, что было ему уже пятьдесят лет – возраст, в который умный, светский и обеспеченный человек всегда становится к себе почтительнее, иногда даже поневоле.
С первого мгновения старец ему не понравился. В самом деле, было что-то в лице старца, что многим бы, и кроме Миусова, не понравилось. Это был невысокий сгорбленный человечек с очень слабыми ногами, всего только шестидесяти пяти лет, но казавшийся от болезни гораздо старше, по крайней мере, лет на десять. Все лицо его, впрочем, очень сухенькое, было усеяно мелкими морщинками, особенно было много их около глаз. Глаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки. Седенькие волосики сохранились лишь на висках, бородка была крошечная и реденькая, клином, а губы, часто усмехавшиеся, – тоненькие, как две бечевочки. Нос не то чтобы длинный, а востренький, точно у птички.
«По всем признакам злобная и мелко-надменная душонка», – пролетело в голове Миусова. Вообще он был очень недоволен собой.
Пробившие часы помогли начать разговор. Ударило скорым боем на дешевых маленьких стенных часах с гирями ровно двенадцать.
– Ровнешенько настоящий час, – вскричал Федор Павлович, – а сына моего Дмитрия Федоровича все еще нет. Извиняюсь за него, священный старец! (Алеша весь так и вздрогнул от «священного старца».) Сам же я всегда аккуратен, минута в минуту, помня, что точность есть вежливость королей…
– Но ведь вы, по крайней мере, не король, – пробормотал, сразу не удержавшись, Миусов.
– Да, это так, не король. И представьте, Петр Александрович, ведь это я и сам знал, ей-богу! И вот всегда-то я так не кстати скажу! Ваше преподобие! – воскликнул он с каким-то мгновенным пафосом: – Вы видите пред собою шута воистину! Так и рекомендуюсь. Старая привычка, увы! А что не кстати иногда вру, так это даже с намерением, с намерением рассмешить и приятным быть. Надобно же быть приятным, не правда ли? Приезжаю лет семь назад в один городишко, были там делишки, а я кой с какими купчишками завязал было компаньишку. Идем к исправнику, потому что его надо было кой о чем попросить и откушать к нам позвать. Выходит исправник, высокий, толстый, белокурый и угрюмый человек – самые опасные в таких случаях субъекты: печень у них, печень. Я к нему прямо и, знаете, с развязностию светского человека: «Г. исправник, будьте, – говорю, – нашим, так сказать, Направником!» – Я уж вижу с первой полсекунды, что дело не выгорело, стоит серьезный, уперся: «Я, говорю, – пошутить желал, для общей веселости, так как г. Направник известный наш русский капельмейстер, а нам именно нужно для гармонии нашего предприятия вроде как бы тоже капельмейстера…» И резонно ведь разъяснил и сравнил, не правда ли? «Извините, говорит, я исправники каламбуров из звания моего строить не позволю». Повернулся и уходит. Я за ним, кричу: «Да, да, вы исправник, а не Направник!» – «Нет, говорит, уж коль сказано, так значит я Направник». И представьте, ведь дело-то наше расстроилось! И все-то я так, всегда-то я так. Непременно-то я своею же любезностью себе наврежу! Раз, много лет уже тому назад, говорю одному влиятельному даже лицу: «Ваша супруга щекотливая женщина-с», – в смысле то есть чести, так сказать, нравственных качеств, а он мне вдруг на то: «А вы ее щекотали?» Не удержался, вдруг, дай, думаю, полюбезничаю: «да, говорю, щекотал-с», ну, тут он меня и пощекотал… Только давно уж это произошло, так что уж не стыдно и рассказать; вечно-то я так себе наврежу!
– Вы это и теперь делаете, – с отвращением пробормотал Миусов.
Старец молча разглядывал того и другого.
– Будто! Представьте, ведь я и это знал, Петр Александрович, и даже знаете: предчувствовал, что вы мне первый это и заметите. В эти секунды, когда вижу, что шутка у меня не выходит, у меня, ваше преподобие, обе щеки к нижним деснам присыхать начинают, почти как бы судорога делается; это у меня еще с юности, как я был у дворян приживальщиком и приживанием хлеб добывал. Я шут коренной, с рождения, все равно, ваше преподобие, что юродивый; не спорю, что и дух нечистый, может, во мне заключается, небольшого, впрочем, калибра, поважнее-то другую бы квартиру выбрал, только не вашу, Петр Александрович, и вы ведь квартира не важная. Но зато я верую, в Бога верую. Я только в последнее время усумнился, но зато теперь сижу и жду великих словес. Я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине. Входит и прямо сразу: «Нет Бога». На что великий святитель подымает перст и отвечает: «Рече безумец в сердце своем несть Бог!» Тот как был, так и в ноги: «Верую, – кричит, – и крещенье принимаю». Так его и окрестили тут же. Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин крестным отцом!..
– Федор Павлович, это несносно! Ведь вы сами знаете, что вы врете и что этот глупый анекдот не правда, к чему вы ломаетесь? – дрожащим голосом проговорил, совершенно уже не сдерживая себя, Миусов.
– Всю жизнь предчувствовал, что не правда! – с увлечением воскликнул Федор Павлович. – Я вам, господа, зато всю правду скажу. Старец великий! Простите, я последнее, о крещении-то Дидерота, сам сейчас присочинил, вот сию только минуточку, вот как рассказывал, а прежде никогда и в голову не приходило. Для пикантности присочинил. Для того и ломаюсь, Петр Александрович, чтобы милее быть. А впрочем, и сам не знаю иногда для чего. А что до Дидерота, так я этого «рече безумца» раз двадцать от здешних же помещиков еще в молодых летах моих слышал, как у них проживал; от вашей тетеньки, Петр Александрович, Мавры Фоминишны, тоже между прочим слышал. Все они до сих пор уверены, что безбожник Дидерот к митрополиту Платону спорить о Боге приходил…

Миусов встал, не только потеряв терпение, но даже как бы забывшись. Он был в бешенстве и сознавал, что от этого сам смешон. Действительно, в келье происходило нечто совсем невозможное. В этой самой келье, может быть, уже сорок или пятьдесят лет, еще при прежних старцах, собирались посетители, но всегда с глубочайшим благоговением, не иначе. Все почти допускаемые, входя в келью, понимали, что им оказывают тем великую милость. Многие повергались на колени и не вставали с колен во все время посещения. Многие из «высших» даже лиц и даже из ученейших, мало того, некоторые из вольнодумных даже лиц, приходившие или по любопытству, или по иному поводу, входя в келью со всеми или получая свидание наедине, ставили себе в первейшую обязанность, все до единого, глубочайшую почтительность и деликатность во все время свидания, тем более что здесь денег не полагалось, а была лишь любовь и милость с одной стороны, а с другой – покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца. Так что вдруг такое шутовство, которое обнаружил Федор Павлович, непочтительное к месту, в котором он находился, произвело в свидетелях, по крайней мере, в некоторых из них, недоумение и удивление. Иеромонахи, впрочем, нисколько не изменившие своих физиономий, с серьезным вниманием следили, что́ скажет старец, но, кажется, готовились уже встать, как Миусов. Алеша готов был заплакать и стоял, понурив голову. Всего страннее казалось ему то, что брат его, Иван Федорович, единственно на которого он надеялся и который один имел такое влияние на отца, что мог бы его остановить, сидел теперь совсем неподвижно на своем стуле, опустив глаза, и, по-видимому, с каким-то любознательным любопытством ожидал, чем это все кончится, точно сам он был совершенно тут посторонний человек. На Ракитина (семинариста), тоже Алеше очень знакомого и почти близкого, Алеша и взглянуть не мог: он знал его мысли (хотя знал их один Алеша во всем монастыре).
– Простите меня… – начал Миусов, обращаясь к старцу, – что я, может быть, тоже кажусь вам участником в этой недостойной шутке. Ошибка моя в том, что я поверил, что даже и такой, как Федор Павлович, при посещении столь почтенного лица захочет понять свои обязанности… Я не сообразил, что придется просить извинения именно за то, что с ним входишь…
Петр Александрович не договорил и совсем, сконфузившись, хотел было уже выйти из комнаты.
– Не беспокойтесь, прошу вас, – привстал вдруг с своего кресла на свои хилые ноги старец и, взяв обе руки Петра Александровича, усадил его опять в кресла. – Будьте спокойны, прошу вас. Я особенно прошу вас быть моим гостем, – и с поклоном, повернувшись, сел опять на свой диванчик.
– Великий старец, изреките, оскорбляю я вас моею живостью или нет? – вскричал вдруг Федор Павлович, схватившись обеими руками за ручки кресел и как бы готовясь из них выпрыгнуть сообразно с ответом.
– Убедительно и вас прошу не беспокоиться и не стесняться, – внушительно проговорил ему старец… – Не стесняйтесь, будьте совершенно как дома. А главное, не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит.
– Совершенно как дома? То есть в натуральном-то виде?
О, этого много, слишком много, но – с умилением принимаю! Знаете, благословенный отец, вы меня на натуральный-то вид не вызывайте, не рискуйте… до натурального вида я и сам не дойду. Это я, чтобы вас охранить, предупреждаю. Ну-с, а прочее все еще подвержено мраку неизвестности, хотя бы некоторые и желали расписать меня. Это я по вашему адресу, Петр Александрович, говорю, а вам, святейшее существо, вот что вам: восторг изливаю! – Он привстал и, подняв вверх руки, произнес: – Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие, сосцы особенно! Вы меня сейчас замечанием вашим: «Не стыдиться столь самого себя, потому что от сего лишь все и выходит», – вы меня замечанием этим как бы насквозь проткнули и внутри прочли. Именно мне все так и кажется, когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот «давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня!» Вот потому я и шут, от стыда шут, старец великий, от стыда. От мнительности одной и буяню. Ведь если б я только был уверен, когда вхожу, что все меня за милейшего и умнейшего человека сейчас же примут, – Господи! какой бы я тогда был добрый человек! Учитель! – повергся он вдруг на колени, – что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?
Трудно было и теперь решить: шутит ли он или в самом деле в таком умилении?
Старец поднял на него глаза и с улыбкой произнес:
– Сами давно знаете, что надо делать, ума в вас довольно: не предавайтесь пьянству и словесному невоздержанию, не предавайтесь сладострастию, а особенно обожанию денег, да закройте ваши питейные дома, если не можете всех, то хоть два или три. А главное, самое главное – не лгите.
– То есть это про Дидерота, что ли?
– Нет, не то что про Дидерота. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную свою ложь слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а, стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям, и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору, – знает сам это, а все-таки самый первый обижается, обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной… Да встаньте же, сядьте, прошу вас очень, ведь все это тоже ложные жесты…
– Блаженный человек! Дайте ручку поцеловать, – подскочил Федор Павлович и быстро чмокнул старца в худенькую его руку. – Именно, именно приятно обидеться. Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал еще. Именно, именно я-то всю жизнь и обижался до приятности, для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть; – вот что вы забыли, великий старец: красиво! Это я в книжку запишу! А лгал я, лгал, решительно всю жизнь мою, на всяк день и час. Воистину ложь есмь и отец лжи! Впрочем, кажется, не отец лжи, это я все в текстах сбиваюсь, ну хоть сын лжи, и того будет довольно. Только… ангел вы мой… про Дидерота иногда можно! Дидерот не повредит, а вот иное словцо повредит. Старец великий, кстати, вот было забыл, а ведь так и положил, еще с третьего года, здесь справиться, именно заехать сюда и настоятельно разузнать и спросить: не прикажите только Петру Александровичу прерывать. Вот что спрошу: справедливо ли, отец великий, то, что в Четьи-Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову, и «любезно ее лобызаше», и долго шел, неся ее в руках и «любезно ее лобызаше». Справедливо это или нет, отцы честные?
– Нет, несправедливо, – сказал старец.
– Ничего подобного во всех Четьих-Минеях не существует. Про какого это святого, вы говорите, так написано? – спросил иеромонах, отец-библиотекарь.
– Сам не знаю про какого. Не знаю и не ведаю. Введен в обман, говорили. Слышал, и знаете, кто рассказал? А вот Петр Александрович Миусов, вот что за Дидерота сейчас рассердился, вот он-то и рассказал.
– Никогда я вам этого не рассказывал, я с вами и не говорю никогда вовсе.
– Правда, вы не мне рассказывали; но вы рассказывали в компании, где и я находился, четвертого года это дело было. Я потому и упомянул, что рассказом сим смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы не знали о сем, не ведали, а я воротился домой с потрясенною верой и с тех пор все более и более сотрясаюсь. Да, Петр Александрович, вы великого падения были причиной. Это уж не Дидерот-с!
Федор Павлович патетически разгорячился, хотя и совершенно ясно было уже всем, что он опять представляется. Но Миусов все-таки был больно уязвлен.
– Какой вздор, и все это вздор, – бормотал он. – Я действительно, может быть, говорил когда-то… только не вам. Мне самому говорили. Я это в Париже слышал от одного француза, что будто бы у нас в Четъи-Минеи это за обедней читают… Это очень ученый человек, который специально изучал статистику России… долго жил в России… Я сам Четьи-Минеи не читал… да и не стану читать… Мало ли что болтается за обедом?.. Мы тогда обедали…
– Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял! – поддразнивал Федор Павлович.
– Какое мне дело до вашей веры! – крикнул было Миусов, но вдруг сдержал себя, с презрением проговорив: – Вы буквально мараете все, к чему ни прикоснетесь.
Старец вдруг поднялся с места:
– Простите, господа, что оставляю вас пока, на несколько лишь минут, – проговорил он, обращаясь ко всем посетителям, – но меня ждут еще раньше вашего прибывшие. А вы все-таки не лгите, – прибавил он, обратившись к Федору Павловичу с веселым лицом.
Он пошел из кельи, Алеша и послушник бросились, чтобы свести его с лестницы. Алеша задыхался, он рад был уйти, но рад был и тому, что старец не обижен и весел. Старец направился к галерее, чтобы благословить ожидавших его. Но Федор Павлович все-таки остановил его в дверях кельи:
– Блаженнейший человек! – вскричал он с чувством, – позвольте мне еще раз вашу ручку облобызать! Нет, с вами еще можно говорить, можно жить! Вы думаете, что я всегда так лгу и шутов изображаю? Знайте же, что это я все время нарочно, чтобы вас испробовать, так представлялся. Это я все время вас ощупывал, можно ли с вами жить? Моему-то смирению есть ли при вашей гордости место? Лист вам похвальный выдаю: можно с вами жить! А теперь молчу, на все время умолкаю. Сяду в кресло и замолчу. Теперь вам, Петр Александрович, говорить, вы теперь самый главный человек остались… на десять минут.
III
Верующие бабы
Внизу, у деревянной галерейки, приделанной к наружной стене ограды, толпились на этот раз все женщины, баб около двадцати. Их уведомили, что старец наконец выйдет, и они собрались в ожидании. Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. Их было две: мать и дочь. Госпожа Хохлакова-мать, дама богатая и всегда со вкусом одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа, немного бледная, с очень оживленными и почти совсем черными глазами. Ей было не более тридцати трех лет, и она уже лет пять как была вдовой. Четырнадцатилетняя дочь ее страдала параличом ног. Бедная девочка не могла ходить уже с полгода, и ее возили в длинном покойном кресле на колесах. Это было прелестное личико, немного худенькое от болезни, но веселое. Что-то шаловливое светилось в ее темных больших глазах с длинными ресницами. Мать еще с весны собиралась ее везти за границу, но летом опоздали за устройством по имению. Они уже с неделю как жили в нашем городе, больше по делам, чем для богомолья, но уже раз, три дня тому назад, посещали старца. Теперь они приехали вдруг опять, хотя и знали, что старец почти уж не может вовсе никого принимать, и, настоятельно умоляя, просили еще раз «счастья узреть великого исцелителя». В ожидании выхода старца мамаша сидела на стуле, подле кресел дочери, а в двух шагах от нее стоял старик монах, не из здешнего монастыря, а захожий из одной дальней северной малоизвестной обители. Он тоже желал благословиться у старца.
Но показавшийся на галерее старец прошел сначала прямо к народу. Толпа затеснилась к крылечку о трех ступеньках, соединявшему низенькую галерейку с полем. Старец стал на верхней ступеньке, надел эпитрахиль и начал благословлять теснившихся к нему женщин. Притянули к нему одну кликушу за обе руки. Та, едва лишь завидела старца, вдруг начала, как-то нелепо взвизгивая, икать и вся затряслась, как в родимце. Наложив ей на голову эпитрахиль, старец прочел над нею краткую молитву, и она тотчас затихла и успокоилась. Не знаю как теперь, но в детстве моем мне часто случалось в деревнях и по монастырям видеть и слышать этих кликуш. Их приводили к обедне, они визжали или лаяли по-собачьи на всю церковь, но когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас «беснование» прекращалось, и больные на несколько времени всегда успокаивались.
Меня, ребенка, очень это поражало и удивляло. Но тогда же я услышал от иных помещиков и особенно от городских учителей моих, на мои расспросы, что это все притворство, чтобы не работать, и что это всегда можно искоренить надлежащею строгостью, причем приводились для подтверждения разные анекдоты. Но впоследствии я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь, и, кажется, по преимуществу у нас, на Руси, свидетельствующая о судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов; кроме того, от безвыходного горя, от побоев и проч., чего иные женские натуры выносить, по общему примеру, все-таки не могут. Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь, бывало, ее подведут к дарам, которое объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими «клерикалами», происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом, и подводившие ее к дарам бабы, а главное, и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вынести, если ее, больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило (и должно было происходить) в нервной и, конечно, тоже психически больной женщине непременное как бы сотрясение всего организма ее в момент преклонения пред дарами, сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самою полною верой в то, что оно совершится. И оно совершалось хотя бы только на одну минуту. Точно так же оно и теперь совершилось, едва лишь старец накрыл больную эпитрахилью.