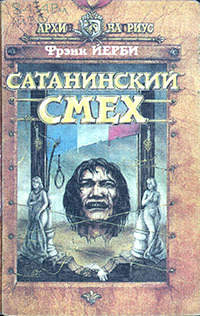
Сатанинский смех
У Жерве были почти безумные глаза. Он протянул руку, грубо оторвал Николь от Жана, повернул лицом к себе.
– Николь! – раздраженно проскрипел он. – Бога ради, я…
– Видишь, брат, что происходит? – спокойно прервала его Николь. – Я с великой радостью отдам за него жизнь. Теперь ты должен отпустить его. Потому что если ты убьешь его, что бы ты после этого ни сделал со мной – отошлешь меня в монастырь или получишь lettre de cachef[8] от короля и заточишь меня в тюрьму или запрешь здесь, – я умру через час после того, как узнаю о его смерти…
Они все трое слышали за дверью голоса молодых аристократов, выражавших свое неудовольствие задержкой.
Жерве посмотрел на Жана. Он дрожал.
– Ты, подлый бастард, уходи! – прорычал он. – Будь ты проклят, ублюдок, убирайся!
Вылезая из окна, Жан Поль Марен поразился своим издевательским хохотом. Он поторопился смеяться. Потому что когда он выпутался из ветвей вьющегося дерева и спрыгнул с высоты десяти футов, то попал в руки поджидавшей его своры конюхов, пажей, лакеев во главе с тем самым кучером, чье лицо он рассек рукояткой пистолета…
4
Как долго это продолжалось, Жан Поль не знал. Он висел в кандалах, в которые были закованы кисти рук и щиколотки ног. Если бы не кандалы, он повалился бы вниз лицом. Глаза его были закрыты, но он оставался в сознании. Струйки грязной воды, которой плеснули ему в лицо, чтобы привести в чувство, стекали с изорванной одежды. Он наконец понял, что не надо после ушатов холодной воды показывать, что к тебе вернулось сознание. Ибо каждый раз, когда он открывал глаза, они опять принимались избивать его.
Лохмотья, в которые они превратили его одежду, прилипли к телу. Но несмотря на то, что он был избит до полусмерти, мысли его не утратили привычной иронии.
Это ведь одежду Жюльена они терзают, подумал он, усмехаясь, моя-то как новая… Мне этот костюм никогда уже не понадобится…
– Да он притворяется, – прорычал главный кучер. – Дайте-ка я поговорю с ним! Сейчас я приведу его в чувство…
Жан услышал приближающиеся шаги. И другой звук – звяканье, похожее на звяканье цепи.
– Наградил меня шрамом? – орал кучер. – Изуродовал мне лицо так, что молодые женщины содрогаются, когда видят меня! Посмотрим, как ты будешь выглядеть, когда я отделаю тебя, господин Буржуазный Принц!
Он размахнулся цепями и со всей силой хлестнул ими Жана по лицу. Удар пришелся по лбу между глазами, сломал нос и распорол лицо от лба до верхней губы длинным диагональным ударом.
– О! – задохнулся Жан и захрипел. – О, Боже!
– Он теперь не такой красавчик, а, парни? – ухмыльнулся кучер. – Посмотрим, не смогу ли я подправить его личико.
Он снова размахнулся окровавленными цепями. Но прежде чем он успел обрушить их еще раз, его остановил чей-то голос. Чистый, высокий голос, звучавший так спокойно, что только тончайшая грань отделяла его от прячущейся под этим нарочитым спокойствием истерики.
– Остановитесь! – произнесла Николь. – Если ты, Августин, еще раз ударишь его, я прикажу бить тебя кнутом, пока у тебя на спине не останется ни одного дюйма мяса…
– Госпожа, – заворчал кучер, – с какой стати…
– Не твое дело, Августин. Я пришла сюда с разрешения брата. Развяжите его!
– Но… но… госпожа!
– Ты слышал? У меня с собой записка от вашего хозяина, поскольку я была уверена, что ты мне не поверишь. Месье Марена не следует пытать. Совершенно не следует, а в дальнейшем… В обмен на это я обещала брату не оказывать ему помощь в организации побега, хотя теперь это вообще вряд ли возможно, когда я вижу, что с ним сделали…
Августин взял записку и посмотрел на нее. Читать он не умел, но испытывал свойственное крестьянам уважение к написанным словам.
– Рука моего хозяина, – пробормотал он. – Ничего не понимаю. Но у нас нет другого выхода… дай мне ключи, Жюль…
Жан скорее почувствовал, чем услышал, как повернулся ключ в замках кандалов. Когда цепи перестали его поддерживать, он повалился вперед, но двое лакеев подхватили его и осторожно опустили на пол.
– Отнесите его наверх, – скомандовала Николь, – и уложите в маленькой комнате. После этого отдайте ключ моему брату, как я ему обещала…
Они подняли Жан Поля и отнесли в маленькую комнату в другой части подвала, которая была приспособлена отцом Жерве для одной-единственной цели – запирать в ней членов собственной семьи в наказание за дурное поведение. Так что комната эта, несмотря на простую обстановку, была вполне комфортабельна. Там имелась хорошая постель, умывальник и даже кресло. В молодости Жерве ла Муат частенько сиживал в этой комнате, размышляя о своих грехах…
Они положили Жан Поля на постель и стояли, переминаясь с ноги на ногу, поглядывая на Николь.
– А теперь принесите воды, горячей, и полотно для перевязок. Жюль, ты отправляйся и скажи кухарке, чтобы сварила мясной бульон. И принеси бутылку вина, самого лучшего. А теперь убирайтесь отсюда, вы, злодеи!
Когда они ушли, Жан открыл глаза и даже попытался улыбнуться, хотя при его рассеченном лице это причиняло дьявольскую боль.
– Как тебе, – прошептал он, – удалось все это?
– Помолчи! – ответила она. – Пожалуйста, не пытайся разговаривать. О, Жанно, Жанно, мой дорогой, что они с тобой сделали?
– Сделали достаточно, – усмехнулся Жан, но это усилие привело к тому, что он ощутил в разбитом рту привкус горячей и соленой крови.
Она упала на него, вся дрожа, не обращая внимания на кровь, пот и пятна грязной воды, которыми он был покрыт.
– Ты испортишь платье, – прохрипел он.
– Мое платье! – выдохнула она. – Ты лежишь здесь с совершенно разбитым лицом и говоришь о моем платье! О, Жан, мой Жан, ты был так красив, а теперь… теперь…
Она не могла договорить. Слезы душили ее.
– У меня неприглядный вид, да? – пробормотал он и поднял руку, чтобы погладить ее сияющие волосы, которые были сейчас в своем естественном виде, без пудры. – Это к лучшему, теперь ты освободишься от этого глупого каприза, будто любишь меня…
Николь села на постели и долго всматривалась в него, прежде чем заговорила.
– Да, Жанно, – прошептала она. – Настанет день, когда я перестану любить тебя. Это будет тот день, когда я лягу рядом с тобой в могилу. Впрочем, даже и не тогда, потому что, если есть правда в учении церкви, я буду любить тебя вечно.
Жан поймал ее маленькую руку своей и крепко сжал.
– Не говори так, – простонал он. – Ты сама не знаешь, что говоришь!
– Все я знаю. Шрам на твоем лице будет для меня символом чести, ведь ты получил эту рану ради меня. Ты всегда будешь прекрасен в моих глазах гордой мужской красотой, как один из Господних ангелов, спустившихся на землю. Я даже думаю, что этому зверю кучеру не удалось добиться своего, ибо никакой шрам не может осквернить ту красоту, что внутри тебя, в твоей душе…
– Не говори больше о красоте, – Жан чуть не плакал, – ты сидишь рядом, ослепляя меня, лишаешь меня рассудка своим присутствием, а у меня нет сил обнять тебя!
– О, Жанно, я… – начала она, но в эту минуту появился слуга с водой и бельем.
Кивком головы Николь отпустила его. Следующий час она была очень занята. Она смачивала водой и отделяла куски одежды от его израненного тела, но, несмотря на эту предосторожность, они кое-где прилипли так, что, когда она их отдирала, проступала кровь.
Однако она непреклонно продолжала свое занятие, ее лицо было бледнее смерти, а Жан терял сознание от боли. Потом он наконец ощутил прохладу, и это вернуло его к жизни. Он посмотрел на свое тело и обнаружил, что лежит совершенно голый. Он тщетно попытался с помощью рук и ног прикрыться. А она только нежно улыбнулась и продолжала купать его.
– Не смущайся, мой Жан, – нежно сказала она, – теперь ты мой, и твое тело тоже часть меня. Кроме того, оно прекрасно… или было прекрасным, и будет еще, когда я тебя вылечу…
Через некоторое время, перебинтованный и смазанный целительной мазью, он лежал спокойно и во второй раз на протяжении нескольких последних недель позволил ухаживать за собой, как за ребенком. Потом он уснул, чувствуя, как обнимают его за шею ее руки, а голова покоится у нее на груди.
Когда он проснулся, она все еще была рядом. Ее лечение принесло свои плоды, и он чувствовал себя лучше, хотя и был очень слаб.
– Как же тебе удалось все это сделать? – спросил он. – Если бы твой брат пришел сюда…
– Он не придет, – улыбнулась она, – сейчас он подъезжает к вашему дому, чтобы нанести визит твоей сестре…
– О, Боже! – вырвалось у Жана.
– Не поминай его имя, мой Жанно, – я всегда буду называть тебя так, вижу, тебе нравится это имя. Я… я должна была кое-что предпринять. Я не могла допустить, чтобы ты умер от пыток… Сегодня утром явилась новая толпа кредиторов. Я сказала Жерве, что если он убьет тебя, то в ближайшее время вряд ли может надеяться поправить свои дела, даже женившись на твоей сестре Терезе. К тому же я дала ему понять, что в его власти ускорить события, если он поедет к ней и предложит акт милосердия в отношении тебя в обмен на немедленную женитьбу…
– Снисхождение! – простонал Жан. – Такой ценой!
– Она любит его, Жан, – как я люблю тебя. Я… я видела ее письма. Плакала над ними. Мой брат не заслуживает такой любви. Так что ты подвергнешься заключению на непродолжительное время – наверное, на год или на два, – только затем, чтобы Жерве не вступал в конфликт с законом, с которым он не может не считаться, принимая во внимание количество свидетелей твоего безрассудства… Он надеется, что к тому времени, когда ты выйдешь на свободу, ему удастся благополучно выдать меня замуж, но он меня недостаточно хорошо знает, Жанно. Я буду ждать, пока не кончится срок твоего заключения, а если потребуется, еще дольше… А потом мы с тобой уедем в Америку, в колонии Его Величества и будем там жить около той большой реки с непроизносимым названием…
– Миссисипи, – прошептал Жан. – Какая же ты фантазерка, любимая…
– Расскажи мне про Терезу, – попросила Николь. – Какая она?
– Она, – Жан подыскивал слова, – похожа на маленькую птичку. Она очень маленькая, даже меньше ростом, чем ты, и брюнетка, как и я. Мне она кажется очень красивой, но, возможно, я пристрастен к ней…
– Нет, – объявила Николь, – ты всегда говоришь то, что есть, мой Жанно. Я уверена, что полюблю ее. Ведь это она причина вашей ссоры с Жерве или нет?
– Да, – ответил Жан, радуясь, что это только наполовину ложь.
– А в чем дело, Жан? Мой брат из знатного рода и очень красив. Вдобавок она его любит. Почему же ты так настроен против этого брака?
– Потому что он аристократ, – сказал Жан, – а я ненавижу всех аристократов – кроме тебя, Николь, – которые разорили страну и поставили ее на край гибели. И потом, ты это хорошо знаешь, в своих поступках твой брат человек необузданный и весьма неразумный. А хуже всего то, что ему нужна моя сестра только из-за ее приданого, потому что он никогда ее не любил…
– А я тебя люблю. Наверное, и ты меня немного любишь – надеюсь на это, и тем не менее мы не можем пожениться из-за глупости сословных предрассудков. О, Жанно, мне совершенно все равно, что ты делаешь! Разрушь этот мир, каким мы его знаем, если хочешь, лишь бы я могла принадлежать тебе!
– Это очень несправедливый мир, – серьезно сказал Жан.
– Я это знаю, – отозвалась Николь, – но не уверена, что в сердце человека есть место справедливости. А теперь усни, мой Жанно, тебе так нужен отдых…
И Жан Поль Марен закрыл глаза и проспал у нее на руках всю ночь, как невинное дитя.
После этого она приходила его проведать каждый день. А когда однажды не пришла, Жан Поль понял, что вернулся Жсрве. Теперь Жан мог уже ходить, все его раны зажили, кроме самой тяжелой – на лице. Он просил Николь принести ему зеркало, но она отказывалась.
Однако он получил некоторое представление о своем облике, когда на следующее утро после своего возвращения Жерве ла Муат вошел в его комнату.
Жан Поль увидел, как побледнел Жерве. Затем с губ графа сорвался легкий, почти неслышный свист.
– Ладно, Марен, – сказал он наконец, – думаю, теперь мы в расчете. В следующее воскресенье мы с твоей сестрой обвенчаемся. А ты с таким лицом больше не будешь соблазнять высокородных девиц – могу держать пари, – да и простолюдинок тоже. Мне жаль тебя: ты был довольно красив…
– Что со мной будет? – обратился к нему Жан.
– Завтра тебя передадут королевскому судье по обвинению в проникновении в частное владение и в нанесении телесных повреждений. Ни одно из этих преступлений не влечет за собой смертную казнь, которая полагается тебе за нападение на Гастона де Шалье. Обычный приговор в таких случаях – от пяти до десяти лет на галерах. Постараюсь вытащить тебя оттуда как можно скорее, как обещал твоей сестре и своей. Nom de Dieu, как это тебе удалось околдовать ее! Хотя, конечно, в привлекательности тебе не откажешь. Хочу поздравить тебя с изящно проведенным маскарадом. Я даже подумал, что у кузена Жюльена улучшились манеры…
Улыбка исказила разбитое лицо Жана.
– Благодарю вас, месье, – сказал он.
– Ага, – откликнулся Жерве, – так-то лучше. Полагаю, ты начинаешь понимать всю глупость своих поступков. Когда отбудешь наказание, приходи ко мне, я попрошу Его Величество дать тебе должность, соответствующую твоим бесспорным талантам, – разумеется, в колониях. Таких подстрекателей, как ты, лучше держать подальше от Франции.
Жан вновь улыбнулся.
– Вы мне льстите, месье, – сказал он.
Выходя из комнаты, граф де Граверо, хоть
убей, не мог решить, то ли Жан Поль одумался, то ли он сам; граф, оказался мишенью тончайшей насмешки. Но эту мысль он отбросил, как отбрасывал все беспокойные мысли. Такова была привычка его сословия. Привычка, которая приведет в один прекрасный день к роковым последствиям…
Перед началом суда над Жаном граф на полчаса заперся с королевским судьей. То, что он сообщил судье, дало свой результат – Жан Поль избежал предварительного расследования, которое включало испытание железом или огнем, прободение языка или щеки, битье кнутом до крови и некоторые другие “приятные” процедуры, все еще предусматриваемые уголовным законом Франции в 1784 году и обычно применявшиеся в подобных случаях.
Хорошо зная законы, Жан Поль понимал, сколь многим обязан графу де Граверо. Он пытался убедить себя, что предпочел бы вынести любые пытки, лишь бы не оказаться в долгу у Жерве ле Муата за счет и Терезы, и Николь. Но его краткий опыт, когда он подвергся пытке в руках специалистов, открыл ему границы того, что он может вынести, и он был искренне рад, что избежал страданий.
Спустя полчаса он был приговорен к пяти годам на галерах. Не будь Жан Поль юристом, он впал бы в полное отчаяние, ибо мало кому удавалось выжить и год, сидя за веслами на галере под бичами надсмотрщиков. Но Жан знал, что хотя этот закон и оставался на бумаге, но галеры уже не существовали, худшее, что могло его ожидать – каторга для преступников, хотя и была столь же близка к аду, особенно в той ее части, которая зависела от надсмотрщиков, но все же была в тысячу раз лучше галер, которые она заменила. На каторге люди довольно часто отбывали свой срок и оставались живы, на галерах – никогда.
Жан Поля под стражей доставили в лагерь для арестантов в нескольких лье от деревни и швырнули за изгородь.
Месье Жерад, комендант лагеря, глянул на него и простонал:
– О, Боже, неужели еще один!
– Боюсь, что да, господин комендант, – насмешливо отозвался Жан.
Месье Жерад уставился на него.
– И говорит по-французски, – удивился он, – а не бормочет, как все крестьяне! Как твое имя?
– Жан Поль Марен, – отвечал Жан, – бывший адвокат в Сен-Жюле и Ближних Альпах, инспектор складов фирмы “Марен и сыновья”, а теперь – обычный преступник.
Жерад довольно долго и внимательно разглядывал его. Потом запрокинул голову и расхохотался.
– Будь я проклят! – произнес он сквозь смех. – Ты мне нравишься! А что случилось с твоим лицом?
– Комплимент от слуг ето благородия Жерве ла Муата, графа де Граверо, – ответил Жан.
– Вот подонок! – сплюнул комендант и обратился к стражам, доставившим Жана. – В чем обвиняют этого человека?
– Проникновение в частное владение и нанесение телесных повреждений, – хором ответили они.
Жерад записал что-то в журнале, лежавшем перед ним.
– Ладно, – проворчал он, – отправляйтесь. Теперь он под моим началом…
Он оглянулся вокруг, пока не заметил какого-то грязного оборванца.
– Эй, ты! – заорал он. – Принеси полено! Оборванец принес полено и поставил его
перед комендантом.
– Садитесь, месье адвокат, – сказал Жерад.
Жан сел, с откровенным любопытством разглядывая этого странного чиновника. Ренуар Жерад был высоким, худым мужчиной с тонким добрым лицом. Жан подумал, что на всем белом свете нет другого человека, который бы так не подходил для этой должности.
– А теперь, мой мальчик, – весело сказал он, – расскажи мне, что произошло на самом деле. Твоя фамилия Марен. Ты упомянул, что имеешь отношение к фирме “Марен и сыновья”, это означает, что ты один из сыновей. Будучи Мареном, ты можешь купить этого подонка Граверо десять раз и еще потребовать сдачу. Совершенно ясно, что ты проник в замок Граверо не для того, чтобы что-либо украсть. Так какого дьявола ты там делал?
“Меня уже приговорили, – подумал Жан. – И будь я проклят, если передо мной не порядочный человек!”
– Я отправился туда, – рассмеялся он, – чтобы ввести фут холодной стали или унцию свинца в кишки господина графа.
– Очень жаль, что тебе это не удалось, – спокойно заметил Жерад. – Однако все это не добавляет ясности. Ты отправился туда, чтобы убить ла Муата, а препроводили тебя ко мне с детскими обвинениями. Во имя неба, Марен, почему?
– Жерве ла Муат полный банкрот, – объяснил Жан. – Чтобы выпутаться, он обручился с моей сестрой. Ясно, что, обреки он меня на смерть, бракосочетание не состоялось бы…
– Понятно, – вздохнул Жерад. – Бедная девочка! Я бы сказал, это вполне достаточная причина, чтобы убить его… А других причин не было?
Лицо Жана стало суровым.
– Он… он обольстил девушку, на которой я хотел жениться, – прошептал он.
– И мою единственную дочь тоже, – с горечью сказал комендант. – Она… убила себя, моя бедная Мари…
– Примите мои соболезнования, господин комендант, – сказал Жан.
– И мои тебе, – ответил Жерад и протянул ему руку.
Жан крепко пожал ее. И оба поняли, что между ними возникла дружба на всю жизнь.
Жан оглядел каторжный лагерь. Он был полон мужчин, женщин и детей, все были грязные, оборванные, изголодавшиеся. Удивляло большое количество беременных женщин.
– К тому времени, когда мы доберемся до Тулона, – сказал комендант, заметив его взгляд, – они все станут преступниками. Это такая система – сажать всех без разбора… Если человек не был преступником, когда попал к нам, к тому времени, когда наступает срок его освобождения, он обязательно им становится.
– Но почему они здесь? – спросил Жан. – Ведь, наверное, не все эти женщины и дети…
– Преступники? Почти наверняка нет. Ты знаешь закон 1764 года?
– Три года, на галерах за попрошайничество, – медленно произнес Жан, – если ты способен работать, и девять лет, если ты вторично попался. На третий раз – пожизненное заключение. О, Боже, да ведь мы живем в варварской стране!
– А они вынуждены попрошайничать, – горестно сказал комендант. – Или попрошайничать, или умирать с голоду. Земле позволяют годами оставаться непаханой, потому что она не может родить достаточно, чтобы хватило оплатить налоги, необходимые на содержание людей, вроде ла Муата в Версале, в праздной и расточительной роскоши. А стоит только крестьянину выглядеть хоть немного преуспевающим или просто быть полным от природы, как они удваивают налоги. А потом бросают его в тюрьму за то, что он выпрашивает корку хлеба, чтобы накормить своих умирающих от голода детей…
– Я все это знаю, – прошептал Жан Поль.
– Делаю, что могу, – продолжал комендант, – но они мне дают недостаточно, чтобы прокормить хотя бы треть арестантов, которых сюда присылают. Но самое жестокое – человеку даже не обязательно просить милостыню. Достаточно, чтобы его просто в этом обвинили – враг или кто-то еще, кому выгодно, чтобы его осудили…
– Но кто может извлекать выгоду из того, что этих несчастных отправят на каторгу? – спросил Жан.
Жерад показал пальцем:
– Видите этих женщин? Большинство из них были уже беременны, когда попали сюда. Их соблазнители – в основном аристократы, поскольку эти женщины из прислуги – обвиняют их в бродяжничестве и таким образом предотвращают возможные претензии со стороны. Дети? Их обычно обвиняют мачехи, чтобы расчистить путь своему потомству. Обвиняют братья, дети, жены из-за того, чтобы получить какое-то ничтожное наследство… А я должен пытаться накормить их на пять су в день. Во имя Господа Бога, одного этого достаточно, чтобы свести человека с ума!
– А вы не можете освободить их? – спросил Жан. – Насколько я помню, у вас есть такое право…
– Ты же юрист, – проворчал Жерад. – Подумай-ка. Вспомни длинный список условий, при которых они могут быть освобождены.
– Платежеспособный, – начал Жан, – хмурясь от напряжения и усилий перевести туманный язык правовой терминологии в простые слова, – обязан гарантировать попрошайке предоставить ему работу или обещать материально поддерживать его. Вы это имеете в виду, месье Жерад?
– Вот именно, – сердито сказал Ренуар Жерад. – Знаешь, сколько людей было арестовано в первый год действия этого закона? Пятьдесят тысяч. Будь я проклят, Марен, найдешь ты во Франции пятьдесят тысяч платежеспособных личностей? А потом попробуй убедить их гарантировать соответственное количество попрошаек!
Он насмешливо посмотрел на Жана.
– А теперь, – сказал он, – я должен найти солому, на которой ты будешь спать, и какие-нибудь лохмотья, чтобы тебе не замерзнуть. Но все это только на одну ночь. Завтра мы двинемся к Тулону…
Жан поднялся, но остался стоять в ожидании. Что-то в голосе Ренуара Жерада подсказывало ему, что не следует спешить.
– Мы движемся от одной каторжной тюрьмы до другой, – продолжал комендант. – В каждой мы будем забирать новых арестантов. Но при их непреодолимом стремлении экономить на всем, кроме своих прихотей, они не усиливают стражу…
Глаза Жан Поля пытливо вглядывались в лицо коменданта. Но Жерад продолжал говорить так же вкрадчиво.
– Если бы мы шли по побережью, дело бы обстояло не так плохо. Но мы должны подняться в горы к Авиньону и потом спускаться через Арль и Экс, забирая на каждой остановке новых каторжников. К тому времени, когда мы выйдем из Экса, у меня будет больше арестантов, чем я могу сторожить, даже если бы у меня было вдвое больше охраны… и в этих горах…
Жан отвесил ему церемонный поклон.
– Могу ли я сказать, месье комендант, – засмеялся он, – что вы выдающийся начальник?
– А ты, – сухо улыбнулся Ренуар Жерад, – хороший юрист. Позор держать такие мозги, как у тебя, под стражей… А теперь марш отсюда, а иначе ты пропустишь ужин.
Жан Поль все равно не стал ужинать. Ужин состоял из воды, черствого хлеба и двух унций соленого сала. Однако, когда он утром узнал, что их рацион всегда одинаков, он решил, что будет съедать его, чего бы это ему ни стоило, потому что в море ему понадобятся все силы.
Они миновали Марсель и горными проходами двинулись к Авиньону. Арестантов гнали как стадо овец. В первый же день перехода одна женщина умерла от выкидыша. Жерад из жалости разрешил идти медленнее, они уже еле ползли, и все равно женщины и дети ужасно страдали. Когда они в первый раз остановились лагерем на ночевку и все дрожали от холода, пытаясь согреться около костров, Жан Поль подошел к коменданту с вопросом:
– Если я напишу письмо, это не будет слишком большим нарушением? Не знаю, что говорят по этому поводу в правилах…
– Насколько мне известно, ограничений нет, – ответил Жерад. – Люди, которые писали этот закон, не верили, по-моему, что когда-нибудь найдется преступник, умеющий читать или писать. Так что пиши, мой образованный разбойник. Бумагу, перья и чернила найдешь в моем портфеле около того дерева…
Жан Поль уселся около костра и принялся писать. Вокруг него столпилась небольшая толпа арестантов, которые молча, с открытыми ртами следили за мелькавшим в его руке пером. Жан Поль продолжал невозмутимо писать, будучи твердо убежден, что ни один из них не может разобрать ни слова.
– Я отправлю твое письмо с дилижансом из первого же большого города, который мы будем проходить, – сказал ему Жерад.
Затем, взглянув на адрес, комендант уставился на Жан Поля.
– “Мадемуазель Николь ла Муат, графине де Граверо, замок Граверо”, – прочитал он шепотом. – О, Боже, парень, ты сошел с ума!
– Да, – засмеялся Жан, – совершенно верно. Но, надеюсь, вы все равно его отправите…