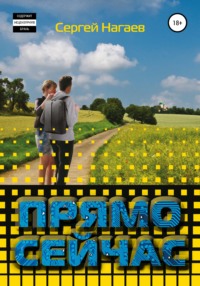
Прямо сейчас
Он сказал нарочито бодро, как видно, в расчете на то, что этот тон заставит беллетриста откликнуться. Но ответом было молчание. Артем Алексеевич выдержал паузу, достаточную для того, чтобы писатель мог отреагировать, но Виталий так и не проронил ни слова.
– Может, вам снять очки? – спросил Артем Алексеевич у Кутыкина. – Неудобно в таком виде идти к президенту. В темных очках. Нехорошо.
Сопровождающий хотел было еще что‑то сказать, однако передумал и только откашлялся.
Кутыкин молчал. Секретарша продолжала печатать, а перед внутренним взором писателя (щека на траве) продолжал бегать ежик.
…Тем временем президент России Владимир Паутов в задумчивости стоял у окна в своем кабинете. Мощным плечом он опирался о раскрытую створку, и складывалось впечатление, что крепкая оконная рама прогибается под его непроизвольным напором и вот‑вот треснет с жалким хрустом, словно сделана из тоненьких реек. Фигура у лидера самой просторной страны мира была действительно могучей, почти квадратной, под стать державе. Такой комплекции хватило бы на двух человек.
Вид из кабинета Сенатского дворца, открывавшийся на древнюю колокольню Ивана Великого, настраивал на философские размышления. Собственно, президент как раз и думал о том, что составляло смысл его жизни, о годах – уже десятилетии! – верховной власти. Он пытался быть беспристрастным, старался отстраненно думать о себе, оценивая, что сделано за это время.
Десять лет – подходящая дата для обобщений и оценок. Десять лет! Бесчисленные заседания правительства, выступления на всевозможных форумах и конференциях, несчетное количество международных переговоров, поездок по стране и миру, отработанных улыбок при перерезании красных ленточек на фоне новых домов культуры, больниц, стадионов, огромное число бесед с «простым народом», распеканий нерадивых чиновников, телемостов, онлайн‑конференций, интервью… И это только верхняя часть айсберга. А сколько работы невидимой! Сколько сил потрачено на продумывание и воплощение всяческих коротких и многоходовых комбинаций в борьбе с оппонентами внутри страны и с внешними недоброжелателями!
Конечно, интриги всегда удавались ему и были даже в радость. Кто‑то из тех, с кем он стартовал на пути к заветному трону, разбивался на бурных порогах политической реки и, если удавалось не утонуть после этого и догрести до берега, до какой‑нибудь тихой, более или менее доходной должности, считал, что ему повезло. Он же в передрягах борьбы за власть всегда чувствовал себя словно рыба в воде и вопреки любым проискам всегда двигался только вверх по течению, как лосось, идущий на нерест. Сколько усилий, времени, нер вов на это потрачено! Он уже десять лет уверенно удерживает за собой пост главы государства. Но что в итоге? Чем он может гордиться, если говорить об этом не перед телекамерой, а просто самому себе – сейчас и здесь, в Кремле, среди храмов и дворцов, которые видывали по‑настоящему великих царей империи. Чем запомнится миру он, сегодняшний самодержец России? Что напишут о годах его правления в учебниках истории?
В этот момент располагавшаяся позади массивного президентского кресла небольшая потайная дверь, поверхность которой не отличалась от отделки стены, без стука раскрылась и в кабинет впорхнула молодая блондинка. Ее легкий сарафан контрастировал с напыщенно‑официозным убранством кабинета.
– Привет! – сказала она Паутову. – Мне сказали, ты еще не начал прием.
– Э‑э, да, – ответил, оборачиваясь, президент.
– Отвлекаю, да? – искренне виновато, но одновременно и с лукавой улыбкой спросила она. – Я только на секундочку, посмотрю на моего Вову свет Иваныча и убегу.
– Да, минутка у меня есть, – ответил Паутов. Морщинки на его лбу расправились, он улыбнулся ей в ответ и добавил: – Для тебя есть.
– Я придумала новые обнимашки, – сказала она и, подскочив к Паутову, неожиданно вскинула вверх правую ногу, так что ее ступня, обутая в изящную туфельку (из тех, что называют балетками, без каблука), оказалась у него на плече.
Он вскинул брови и охнул от удивления, но, впрочем, тут же подхватил ее за талию и, чуть приподняв, прижал к себе, пах к паху.
– Это действительно новое слово в обнимашках, – сказал Паутов, светясь улыбкой.
– Ну, как думаешь, кто еще может обнять тебя в таком шпагате?
– Никто. И никогда.
– А еще что ты сейчас думаешь? – с озорством прошептала она. – Лично я вот думаю, что мы могли бы в такой позе не только обниматься… Как тебе такой сюрприз?
– Да… идея мне нравится. Это большой плюс, что ты у меня цирковая акробатка. И с меня тогда тоже сюрприз. Я обязательно придумаю что‑нибудь необычное. Но, Леночка, радость моя, сейчас… у меня дела.
– Ладно, извини. – Она счастливо улыбнулась и, чуть отстранившись, непринужденно опустила ногу с его плеча.
– Там уже люди ждут, а я хотел до приема еще кое о чем подумать.
– Еще кое о чем? – снова с лукавой улыбкой уточнила Елена, впрочем всем своим видом показывая, что это всего лишь шуточный вопрос, который не требует ответа, и что она больше не намерена отвлекать его.
– Да. – Паутов вздохнул, вспомнив о том, о чем думал перед ее появлением.
– Дела державные, понимаем. Все, я испаряюсь.
Она нежно поцеловала его в шею и было шагнула прочь, но Паутов придержал ее за локоть.
– Не столько державные, сколько… гм… вообще… о жизни… – Лоб Паутова прорезали морщины. Он хотел поделиться с Еленой своими размышлениями, однако не был уверен, стоит ли открывать ей свои тягостные мысли. Чем она, в самом деле, может помочь, такая молодая и неопытная в сравнении с ним?
– Когда я думаю о жизни, – сказала она, – я закрываю глаза и представляю себе, где бы я была, с кем и что я бы делала, если бы могла свободно выбирать. Ну, без оглядки, не знаю, на деньги там или еще на что‑то. А ты как думаешь о жизни?
– Я? Э‑э… я просто думаю… просчитываю.
– А ты попробуй сделать как я. Закрой глаза. Ну, закрывай, это две же секунды.
Паутов с сомнением пожал плечами, но закрыл глаза.
– Так. Теперь забудь про все проблемы. Вот какая картина у тебя перед глазами – это и есть твоя мечта.
Елена смотрела на Паутова, тот все не открывал глаза. Похоже, он всерьез отнесся к эксперименту.
– Ну, что‑нибудь видишь?
– Да, – ответил он и открыл глаза. Она улыбнулась, радуясь, что ее рецепт пригодился, однако не стала расспрашивать его о том, что он представил себе.
Паутов испытующе смотрел ей прямо в глаза, словно пытался угадать что‑то или определиться с чем‑то.
– Я пойду? – спросила Елена.
– Да, – с несколько отсутствующим выражением на лице ответил Паутов.
– Все в порядке?
– Да, – на сей раз ответ его был более твердым, морщины на лбу расправились, – все нормально. Давай, тебе пора. Не обижайся.
– Ну что ты, это ты не обижайся. Мне просто не терпелось сказать тебе про мое обнимательное открытие. Мы эту позу потом обязательно попробуем, хорошо?
– Можешь не сомневаться.
Они поцеловались, и Елена, больше не задерживаясь, скользнула в ту же дверь, в которую вошла.
Несколько секунд Паутов с глуповато‑счастливой улыбкой смотрел на эту дверь. Но затем снова устремил взгляд в окно, на Ивановскую площадь, и улыбка пропала с его губ. Он вернулся к мыслям о своих годах в политике. О своей роли в истории России. Он мысленно так и сформулировал для себя вопрос: какова его роль в истории России. Звучит, конечно, помпезно, Паутов даже усмехнулся. Но, с другой стороны, кто другой, как не глава государства, вправе задать себе этот претенциозный вопрос? Он не просто вправе спросить себя об этом, а даже обязан сделать это, после десяти‑то лет на президентском троне. Итак? Не ввязался ни в одну большую войну. Не вогнал страну ни в одну слишком масштабную реформу, которая неизбежно ухудшила бы жизнь большинства людей. Ни одного дурацкого шапкозакидательского проекта. Хотя возможности и соблазны были. Это плюс? Еще какой! Безусловное благо для любой страны. Но оценит ли кто‑нибудь это достижение? В большой истории, в истории с заглавной буквы сохраняются только яркие события, захватывающие дух прорывы, а не каждодневная возня. Людям нравятся эффектные сальто, а не эффективная размеренная походка.
А может быть, ну их всех к черту? К черту всех этих незнакомых ему людей, которые будут судить о годах его правления, и к черту всех знакомых людей, и к черту большую историю. Что, если взять и просто уйти в отставку? Тогда можно было бы наконец развестись с женой и в открытую зажить с Леной в одном из трех своих замков, например на юге Франции. Прямо сейчас, взять и уйти. Выступить с официальным заявлением, наплести какую‑нибудь лабуду о проблемах со здоровьем – и уйти. Или нет, про здоровье зазря говорить не надо, а то можно сглазить. Ну в таком случае дождаться выборов и не выдвигать свою кандидатуру. И плевать даже на то, что следующий, кто придет к власти, обязательно отнимет весь бизнес в России. И без бизнеса денег припрятано в швейцарских банках – горы. И обоим сыновьям на всю жизнь хватит. И будущим внукам, когда появятся. И будущим детям от Лены, если появятся, – почему бы и нет?
…Писатель Виталий Кутыкин тем временем по‑прежнему дожидался аудиенции президента в соседней комнате, в приемной.
Артем Алексеевич, улыбчивый сопровождающий беллетриста, сел на кресло рядом с ним, затем прямо посмотрел на него. На лице Виталия застыло выражение отстраненности. Абсолютно ничего в нем не менялось. Сопровожда ющий, судя по некоему едва заметному движению уголков его рта и прищуриванию, смекнул что‑то. Он опустил взгляд на свои руки, стал рассматривать их, разминая пальцы, и сказал тоном, не требующим какой‑либо вовлеченности в разговор со стороны присутствующих, – тоном, каким иногда люди говорят сами с собой, размышляя вслух:
– Конечно. Сложно быть писателем. Почитаешь вот интервью – чем писатель занят, это ж голова идет кругом. Надо постоянно писать, придумывать что‑то. В Интернете свой блог обновлять, там тоже надо что‑то выдумывать, отвечать читателям. А их вон сколько. Конечно, перегрузки, иногда хочется как‑то расслабиться… Но… солнечные очки лучше, по‑моему, снять. Здесь же нет солнца.
Артем Алексеевич умолк. Через какое‑то время секретарша перестала печатать, посмотрела на писателя, затем на сидящего рядом с ним сопровождающего, который в ответ поднял брови, как бы говоря ей: «Такие вот бывают люди, писатели», затем она вновь глянула на Кутыкина и сказала:
– Виталий Олегович, может, все‑таки кофейку? Для бодрости духа.
Кутыкин уставился на зеленые ветви березы за окном и молчал, однако, глядя на него, можно было бы предположить, что теперь он мысленно уже не здесь, в кремлевской приемной, а на даче или где‑то еще.
Секретарша вернулась к своему занятию.
– Й‑о‑жег, хватит топать по клаве, – нечленораздельно прохрипел вдруг Кутыкин, по‑прежнему глядя за окно. Писатель полагал, что исковерканные словечки вроде «йожега» все еще модны в русскоязычном секторе Интернета, и при случае козырял ими.
Он повернул лицо в сторону секретарши, дождался, пока она поймет, что он обращается именно к ней, и, в свою очередь, посмотрит на него, и тогда отвернулся. Надо отметить, что, общаясь с людьми, Кутыкин всегда избегал сколько‑нибудь долгих взглядов глаза в глаза, даже через затемненные очки, словно опасался чужого внимания, а между тем выражение его лица, когда он уводил свой взгляд от взгляда собеседника, демонстрировало его явное пренебрежение к этому вниманию и, пожалуй, к самому собеседнику.
Секретарша несколько смешалась, очевидно не зная, как воспринимать его обращение – как шутку или как хамство? Какой же она ежик? Она вообще‑то помощница самого президента, черт побери! Кутыкин сидел с каменным лицом, хотя по его полуулыбке было видно, что он отлично понимает, в чем заминка, и намеренно, чуть ли не наслаждаясь моментом, ждет ее реакции. Женщина, однако, сначала предпочла считать это шуткой.
– У вас тут аспирина нету? – спросил Кутыкин, не глядя ни на кого.
Секретарша, усмехнувшись, живо вскинулась, подошла к шкафу в углу комнаты, раскрыла дверцы и вдвинулась между ними, так что несколько секунд была видна одна ее спина. Раздалось шуршание и стеклянное звяканье, затем она отступила, уже с хрустальным стаканом в одной руке и пластиковой упаковкой с таблетками аспирина в другой. Она набрала из кулера воды и выдавила из упаковки таблетку в стакан, отчего в нем немедленно разразилась пузырьковая суматоха и шипение.
Женщина подошла к писателю.
– В следующий раз называйте меня, пожалуйста, Клавдией Степановной, а не Клавой.
Да, ее, конечно, задела фраза писателя. Она посерьезнела и, отходя на свое место, прибавила тоном, в котором причудливым образом совместились радушие, чуть ли не ласковость, и угрюмая официальность:
– И тем более не надо называть меня ежиком.
Она улыбнулась писателю самым лучезарным образом, а взгляд ее говорил о том, что она могла бы ответить более изощренно и, главное, более беспардонно, но не желает грубить, потому что он ей не ровня, с ним она ни в чем состязаться не собирается.
Кутыкин держал стакан, демонстрируя улыбку дурачка, не понимающего, о чем идет речь, и, как только таблетка полностью растаяла, залпом выпил. Затем он молча поставил стакан на широкий подлокотник кресла.
Тем временем у секретарши зазвонил телефон, она сняла трубку и, почти сразу сказав в нее: «Хорошо, Владимир Иванович», дала отбой и пригласила писателя входить.
Но на пути к двери Виталия Кутыкина опередил Артем Алексеевич. Он вскочил первым со своего места, воскликнув: «Я вам открою», и в преувеличенном порыве усердия, сопя и фыркая, словно ежик, вдруг нелепо засуетился и так неловко взмахнул рукой перед лицом еще не успевшего встать с кресла Виталия, что зацепил пальцами темные очки, и они полетели в сторону и приземлились на пол у стола секретарши. Быстро извинившись и сказав: «Ничего‑ничего, я сейчас подниму, извините, пожалуйста», Артем Алексеевич бросился к очкам, но, наклоняясь, сделал неуклюжий шаг и всей подошвой наступил на них. И скорее даже не наступил, а этак топнул по ним. У очков не было ни шанса уцелеть. Они хрустнули, распавшись на фрагменты.
– Вот же проклятье, сломались! – констатировал Артем Алексеевич, убирая ногу и демонстрируя то, что осталось от очков.
Писатель обескураженно застыл, глядя на обломки.
– Надо же! – с сожалением в голосе проговорил сопровождающий. – Неудобно‑то как. Ну ладно, придется без очков идти. Прошу вас.
И, не мешкая, Артем Алексеевич с радушной улыбкой глуповатого, но старательного холопа, всегда готового услужить гостям хозяина, распахнул дверь.
Кутыкин покраснел и глубоко задышал от ярости. Однако ж скандалить нельзя было: дверь к президенту раскрыта, надо проходить. И в смешанных чувствах, пытаясь изобразить улыбку на перекошенном от недоумения, обиды и гнева лице, он шагнул в кабинет.
Глава 5. Вагинная
Тем же утром Данила – необычно рано для него, аккурат к началу рабочего дня – вышел из пригородного автобуса на остановке «Быково» и уже через пару минут вошел в двух этажное здание, на стене которого имелась табличка «Станция искусственного осеменения сельскохозяйственных животных». Лицо Данилы выражало тревогу и загнанность. Озираясь, он прошел по коридору первого этажа, на ходу извлек из кармана ключ и, отперев одну из дверей, оказался в комнатушке с узким оконцем. Это было его рабочее место.
Он бросил сумку на стул. Здесь, казалось, напряжение с него несколько спало. Содрогаясь от зевоты, Данила запер дверь изнутри на ключ, сгреб на большом столе к стене бумажки, провода, пустые коробки от компьютерных запчастей и сами запчасти, отшвырнул туда же, не заботясь о том, что могут покорябаться, лазерные диски, по поверхности которых заметались радиусы неживой радуги, и лег, свернувшись калачиком на расчищенном пространстве столешницы.
Данила лежал и прислушивался к тому, что происходит за дверью, но ничего особенного там не происходило. Иногда лишь слышалось то цоканье женских каблучков, то мужская поступь, то унисекс‑шарканье, порой доносились и голоса, которые Данила, приподняв голову и навострившись, узнавал – это были сотрудники станции. Время от времени его веки смежались, и тогда он старательно таращил глаза, чтобы не уснуть, но в конце концов не удержался на краю реальности и провалился в сон.
Спал он крепко и, когда проснулся от громкого стука в дверь, не сразу даже понял, где находится.
– Емельянов, ты там? – услышал Данила женский голос из‑за двери. – Может, его нет?
– Да там он, – донесся второй женский голос, – я видела из окна, как он на работу плелся. Опять, наверно, в наушниках сидит, ни хрена не слышит. Данила, открывай!
В дверь вновь забарабанили. Данила приподнялся и тут, похоже, вспомнив о чем‑то, внезапно стал с тревогой и волнением прислушиваться к происходящему снаружи. Затем он слез со стола, подошел, прихрамывая на затекшую ногу, к двери и повернул ключ в замке.
– О, вот он, – улыбаясь, сказала одна из двух теток, стоявших на пороге каморки, она была в синем рабочем халате. – Что, Емельянов, опять свою музыку безумную слушал? Что‑то у тебя вид какой‑то ошарашенный. Или запуганный.
– Да не запуганный он, – ответила за него вторая тетка, на которой был белый халат, и, хохотнув, добавила: – Дрых, скорей всего. Вон, глянь, ухо красное.
Надо признать, первая женщина, та, что была в синем халате, угадала – Данила и в самом деле выглядел очень обеспокоенным. Стараясь скрыть волнение, он ответил нарочито весело и, пожалуй, даже развязно:
– Я не спал, а работал в ждущем режиме.
По выражению лиц женщин было ясно, что оценить этот юмор они не в состоянии, поскольку бесконечно далеки от мира компьютеров. Между тем по выражению лица самого Данилы и по тому, что он, сделав вроде бы случайный шаг к женщинам, бросил быстрые взгляды за их спины и еще по сторонам, как будто хотел удостовериться, что, кроме них, его никто не поджидает, – словом, по его поведению можно было бы решить, что он ожидал увидеть монстра и пребывает в сильном смятении, чуть ли не в панике. А это явно не соответствовало ситуации: вряд ли добродушные подтрунивания теток‑коллег по поводу сна на рабочем месте могли быть причиной такого волнения.
– Ждал, говоришь, чего‑то? – хмыкнула тем временем та, что была в синем халате. – Ну тогда ты дождался – пошли.
– Куда? – отступив на шаг, спросил Данила.
– Господи, да чего ты так нервничаешь? Просто поможешь мне сперму брать, а то Клим куда‑то пропал. С похмелья небось паразит, а план‑то выполнять надо.
При этих словах Данила непроизвольно вздохнул с облегчением.
– Зина, ну как я буду помогать? – ответил он. – Я же не умею.
– А чего там уметь. Я за Клима буду техником, сама все сделаю, а ты побудешь бочаром за меня, только быков подводить будешь, это ж легко. Давай, в общем, выходи минут через пять на двор.
Женщины ушли.
Данила умылся холодной водой в туалете и отправился куда позвали.
Он шел нехотя. Казалось, его по‑прежнему что‑то сильно беспокоило, он был настороже и при этом отчаянно старался не подавать виду, что опасается чего‑то, даже стал насвистывать, как бы демонстрируя беспечность и отсутствие проблем тем, кто может его вдруг увидеть. Однако он быстро заметил, что насвистывает фальшивя и к тому же как‑то слишком громко, и, когда дал явного петуха, так что свист превратился в шипение, прервал эти маскировочные пассажи.
На станции искусственного осеменения бычья сперма добывалась круглогодично. Зимой, в стужу, процесс происходил в производственном корпусе, а летом, как сейчас, и вообще, когда было более или менее тепло, быков для этого приводили из стойла на прилегающий к корпусу двор. Чтобы попасть во двор, Даниле нужно было пройти из административного здания через производственный корпус. Данила шел по нему не спеша и с каждым шагом двигался все медленнее. В длинном коридоре с утра, видимо, помыли пол, и от желтого кафеля теперь веяло благостной прохладой. Может, Зина во двор еще не вышла, с надеждой подумал Данила. Он глянул на распахнутую дверь в конце коридора, в проеме которой виднелась часть двора, залитая палящим солнцем. Лучше бы подождать ее где‑нибудь здесь, в тени, решил он. Если она выйдет во двор и не застанет там его, ну тогда, не дождавшись, все равно сюда придет и позовет еще раз. Господи, как же не хочется заниматься после бессонной ночи хоть чем‑то! Тем более выводить быков из стойла и вести их на веревке, породистых, огромных, иногда норовистых, опасных, к забору у производственного корпуса, где обычно у них берут сперму.
Между тем это были не подлинные, не истинные мысли Данилы – он думал так, но думал так лишь понарошку, для виду, как будто любой посторонний сейчас мог прочесть его мысли и ему нужно было скрыть то, что по‑настоящему волновало его. Он не размышлял, а скорее заставлял себя размышлять о том, что ему вот вроде как неохота идти на жаркий двор и лень участвовать в отборе бычьего семени, но в действительности предстоящее дело вовсе не угнетало его. Даниле очень хотелось бы испытывать именно такие чувства, именно так думать, потому что он надеялся, вернее, изо всех сил старался убедить себя в том, что всё в его жизни остается прежним, что ничего не изменилось прошлой ночью. Он, словно актер, старательно играл самого себя – того себя, который мог бы быть сейчас на его месте в обыкновенное утро после, скажем, обыкновенной бессонницы в собственной постели. Или пусть не после бессонницы в своей постели, а, предположим, после того же ночного клуба, после кутежа с какими‑то забавными шалостями и похождениями. Но никак не после того приключения, которое ему пришлось пережить минувшей ночью.
В общем, он был совершенно не против поработать сейчас с быками и даже, наоборот, был чертовски рад, что его вызвали именно по этому делу, а не по кое‑какому другому. Однако, сколь он ни старался отогнать от себя мрачные мысли, они вырисовывались в его сознании, нависая черной горой декораций на заднике сцены, где он, отчаянно, водевильно переигрывая, пытался исполнять роль беззаботного парня. При этом время от времени в его памяти всплывал один и тот же момент из прошлой ночи. Перед глазами его периодически на миг возникала и тут же пропадала ужасная картина: у порога обитой жестью двери, в растекающейся луже темной крови, раскроенная голова неизвестного мужчины, который распластался на пяти ступеньках бетонной лестницы, спускающейся от этой двери в зал банка семени. И еще – алые брызги на белой кафельной стене хранилища спермы, у самой дверной рамы, прямо над этой головой с зияющей на макушке раной, из которой шла и шла, стекая и густея на коротких темных волосах, багряная кровь.
Дверь в банк семени, где кто‑то убил этого мужчину (а это, несомненно, было убийство), находилась в конце коридора, по которому сейчас шел Данила. Издалека было видно, что дверь заперта. Собственно, по‑другому и быть не могло. Понятно, что никто из работников станции туда сегодня еще не входил, иначе уже поднялся бы шум, приехала бы милиция. Но ему‑то, Даниле, что до закрытой двери хранилища бычьей спермы? Ведь его не было здесь прошлой ночью, когда все это произошло. Он ничего не видел. Он ничего не знает. Тем более что он действительно не знает, что все‑таки произошло. И поэтому, когда кто‑нибудь, кто первым зайдет в банк семени, обнаружит за порогом труп и когда весть об этом разнесется по станции и дойдет до Данилы, то тогда он, Данила, очень сильно удивится, будет вместе со всеми круглить глаза, будет гадать, что там случилось и почему.
Пройдя с половину коридора, он остановился у другой двери, деревянной, посредине которой было устроено откидное окошко. К этой двери была пришуруплена синяя табличка. Табличка, как и дверь, имела свою историю, в смысле была, по меркам Данилы, доисторической. Если присмотреться, то по строгому, угловатому шрифту надписи, в котором прочитывался стиль сталинского классицизма, а также по тому, что края синего прямоугольника хранили следы многочисленных, не очень‑то аккуратных разноцветных покрасок двери (сейчас дверь была коричневой), – по этим признакам можно было понять, что дверь с табличкой появилась здесь несколько десятилетий назад. На табличке было написано: «Вагинная». Ну, знаете, как оно бывает: в учреждениях есть приемные, в больницах – операционные, на заводах – бойлерные. А здесь была вагинная – она же лаборатория, где стерилизовались и хранились искусственные коровьи вагины для взятия бычьего семени. Корпус такой вагины был пластмассовым, а изнутри эта чуть ли не полуметровой длины труба была отделана мягкой резиной. С одного конца вагины, как полагается, была дырка для насаживания на член быка, а с другого конца к трубе был прикреплен сменный полиэтиленовый пакетик для сбора спермы.
Может, подумал Данила, Зина сейчас там, в вагинной, треплется о чем‑нибудь с Полиной Петровной? (Полина Петровна, та самая женщина в белом халате, что приходила будить Данилу вместе с бочаром Зиной, была на станции искусственного оплодотворения заведующей лабораторией – хозяйкой вагинной.)

