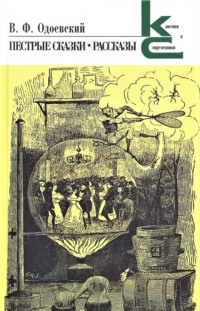
Пестрые сказки. Рассказы

Владимир Одоевский
Пестрые сказки. Рассказы
Издательство выражает благодарность ГБУДО г. Москвы «Детская музыкальная школа им. В. Ф. Одоевского» за предоставленное в издание изображение Герба рода Одоевских
На обложке иллюстрация из книги «Пестрые сказки». Прижизненное издание

© Издательство «Художественная литература», 2022 г.
© Иллюстрация, 2022 г.
В. Ф. Одоевский
Без писателя история русской литературы была бы неполной
Литературная судьба талантливого писателя, публициста, музыковеда, сложилась так, что по прошествии многих лет его имя было забыто. Многие произведения В. Ф. Одоевског, по мнению В. Белинского, читались «с восторгом», «с жадностью», и «плоды его были благодатны».
В альманахах и журналах 20-30-х годов XIX века имя Владимира Одоевского встречалось постоянно. Его связь с ведущими литературными течениями своего времени заслуживает того, чтобы внимательно отнестись к этому интересному писателю.
Путь формирования его идейно-философских, эстетических взглядов был сложен и противоречив. Одоевский – идеалист, романтик постоянно боролся с Одоевским – реалистом, чутким художником, гуманистом, просветителем.
Владимир Федорович Одоевский родился в Москве 1(13) августа 1804 года в старинной дворянской семье. Ему не было и пяти лет, как ушел из жизни отец Ф. С. Одоевский, директор ассигнационного банка. Мать его – Е. А. Филиппова – была до брака крепостной крестьянкой. Воспитывал племянника его дядя по отцовской линии.
В 1816 году Владимир Одоевский поступил в Московский университетский благородный пансион. В этом учебном заведении в разные годы получили образование выдающие русские люди: В. Жуковский, А. Грибоедов, П. Вяземский, М. Лермонтов.
После блистательной победы русского оружия в Отечественной войне 1812 года вольнолюбивые настроения, охватившие лучшую часть общества, создали особую атмосферу в жизни московской молодежи.
Учащиеся жили в постоянном творческом содружестве: издавали рукописный журнал, создавали театральные постановки, существовали литературные объединения, основанные еще В. А. Жуковским. Юноша Одоевский принимал активное участие в жизни учебного заведения. Здесь были заложены основы его будущих разносторонних знаний в области химии, физики, русской и древней истории. С особым интересом он изучал философию и эстетику, много времени посвящал музыке и литературным занятиям.
Юношеские годы писателя отмечены восторженной дружбой с двоюродным братом Александром Одоевским – поэтом и будущим декабристом. Братья постоянно писали друг другу, обменивались стихами, делились своими мыслями.
В 1822 году Одоевский окончил курс Московского университетского пансиона. Отношение профессоров к его талантам укрепили в нем интерес к философским занятиям. Наряду с изучением философии Одоевский уже много работал над прозаическими произведениями. Они были напечатаны в журнале пансиона «Каллиопа» – это первые литературные опыты автора. Интерес к художественной литературе привел его в литературные объединения. Он участвовал в заседаниях «Вольного общества любителей российской словесности», деятельность которого в 20-х годах находилась под влиянием Ф. Глинки и других декабристов.
К этому времени в московском журнале «Вестник Европы» появились первые публикации молодого писателя.
А. Грибоедов одним из первых заметил литературные произведения Вл. Одоевского. Прочитав их, он старался узнать «кто их сочинитель», поскольку они печатались под разными псевдонимами. Это стало поводом к ближайшему знакомству и в дальнейшем – дружбе. Одоевский посещал музыкальный кружок, и дружбу писателей сблизила не только любовь к литературе, но и музыке.
В 1823 году Одоевский принимал участие в «Обществе любомудрия», затем стал его председателем. Тема России, любовь к Отечеству – были звеньями, связывающими его членов, различных по своим идейным позициям.
«Любомудрие» было связано с декабристами. В кружке бывали В. Кюхельбекер, И. Пущин, Е. Оболенский. Одоевский был близок к движению, разделял взгляды декабристов на крепостное право, на роль России и русского национального искусства. Вскоре общество попало в орбиту неблагонадежных, и тайный кружок «любомудров» прекратил свои собрания.
В этом же 1823 году Владимир Одоевский вместе с Вильгельмом Кюхельбекером начали выпуск журнала «Мнемозина». На его страницах печатались произведения А. Пушкина, А. Грибоедова, Е. Баратынского, Н. Языкова, В. Кюхельбекера, Вл. Одоевского. В своих статьях Кюхельбекер впервые заговорил о самобытности и народности поэзии, выступая за раскрытие богатства русского языка. Одоевский горячо защищал тезисы Кюхельбекера от нападок. Он писал: «Мы отыскиваем в чужих странах безделки для своих занятий, забываем о сокровищах, вблизи нас находящихся»[1].
Выход «Мнемозины» стал событием в журналистике пред-декабрьского восстания. Но вместе с тем, стесненная цензурными барьерами, она оставалась в кругу только литературных проблем. Борьба за народность литературы, обращение к источникам народного искусства и критическое отношение к действительности, а также пропаганда науки в русском обществе – стали основой передового общественно-литературного движения. Остаться в стороне от него Одоевский не мог.
События на Сенатской площади и драматические события, разыгравшиеся после восстания: казнь пяти, ссылка в Сибирь ближайших друзей и брата произвели глубокое впечатление на Одоевского. Долгие годы он не прерывал отношения с друзьями, переписывался с ними, хлопотал об облегчении их участи. «Душою всех мыслящих людей овладела грусть», – писал об этом времени А. Герцен.
В 1826 году Владимир Одоевский переехал в Петербург, женился и начал устраивать свою жизнь в столице.
Творческая деятельность его не прекратилась, и в этот период выходили из-под его пера философско-мистические рассказы, предания, легенды. Но наряду с этими произведениями, появилась в творчестве писателя другая их направленность, а именно – сатирическая. В них он выступал как «живой рассказчик», знающий жизнь: обличал чиновников, светское общество, бюрократию.
Цикл «Пестрых сказок», выпущенных в 1833 году, написанных от имени литературного героя – Иринея Модестовича Гомозейко, – используя эзоповский язык, поднимался до острых и верных наблюдений, до сатирически метких обобщений. Фантастическую форму Одоевский использовал для сатирического изображения реальных людей и их поступков. Ириней Модестович задуман был как просветитель. В этом же году В. Ф. Одоевский записал в дневнике: «До этих пор я стою на распутии, и вся жизнь выходит на мелочи. Не для того ли определил мне это Бог, чтобы я мог понять заблудших, перечувствовать их чувства, передумать их мысли – и говорить им их языком»[2]. Такой попыткой заговорить языком «заблудших» и стала книга Одоевского «Пестрые сказки с красным словцом». Хотя читателям и критикам порой оказывалось довольно трудно разобраться в замыслах автора, потому что привычные романтические приемы были обращены к странным героям и слишком резко бросалась в глаза ирония.
В творчестве Вл. Одоевского звучала и распространенная в романтической литературе этого времени тема «высоких безумцев» – музыкантов, поэтов, художников. Таковы у Одоевского замечательные образы музыкантов Бетховена и Баха. Еще со времени университетского пансиона вынес Одоевский глубочайшую любовь к музыке Иоганна Себастьяна Баха, почти неизвестной в то время в России. Эти повести – глубочайшее преклонение перед гениальными композиторами и результат многолетней углубленной работы в области музыки. Одоевский оказался даже одним из первых музыкальных теоретиков в России. Для него музыка – «величайшее из искусств». По его мнению, она должна «потрясать душу и возвышать ее». Повести «Последний квартет Бетховена» и «Себастьян Бах» были горячо встречены современниками.
Мир интересов писателя был очень широк. Темой, связавшей Одоевского с лучшими представителями литературы первой половины XIX века, стала критика капитализма. Одоевский пристально вглядывался в развитие капитализма на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Свои раздумья о результатах буржуазной цивилизации писатель отразил в рассказе «Город без имени». В форме утопии он изобразил жизнь в колонии «утилитариев», где польза была единственным законом, «науки и искусство замолкли совершенно», поэзией был «баланс приходно-расходной книги», музыкой – «однообразная стукотня машин», и бесплодной мечтой было признано все, что не приносило процентов. Повесть вызвала острую полемику и горячие философские споры.
Задумывался автор и о будущем Отечества. Утопия «4338-й год. Петербургские письма». В ней автор наметил очертания будущего строя России. Писатель-просветитель огромное значение придавал развитию науки и техники. Интересно, что в своей утопии Одоевский представлял себе, что в 44-м столетии Россия и Китай станут центром мировой культуры.
Все размышления писателя в его произведениях ясно показывают, какую роль играл Одоевский в русской литературе того времени. Он занимал видное место среди литераторов пушкинского окружения. А. С. Пушкин, начиная издавать журнал «Современник», одного из первых в сотрудники пригласил Одоевского. Это стало отправной точкой начала их близких дружеских отношений. Но вместе с тем Владимир Одоевский относился к Пушкину как к «учителю, перед которым важно и полезно лишь одно чувство: «благоговеяние», и считал его «без сомнения народным художником». Влияние Пушкина на творчество Одоевского возвращало его из мира мистики и фантастики в мир реалистический.
После смерти поэта Одоевский в числе близких друзей Пушкина участвовал в разборе его рукописей. Седьмой том «Современника» выпустил уже В. Ф. Одоевский. Ему принадлежит знаменитая фраза: «Солнце русской поэзии закатилось» – из некролога, написанного на смерть поэта.
50-е годы: в это время изменились философские позиции у В. Ф. Одоевского, он все больше начал проникаться идеями научной критической мысли.
Одоевский-просветитель внимательно следил за развитием науки в России и на Западе. Он осознавал, что будущее его родины заложено в привлечении народных масс к науке, и это подсказывало ему мысль о широком массовом просвещении. С горечью он отмечал в своем дневнике: «У народа нет книг, нет музыкальной культуры». И понимание этого заставляло его приняться за популяризацию науки для народа. Одоевский – один из образованных людей своего времени – первый сделал этот важный шаг. Петербургское общество отнеслось к почину Одоевского с недоверием. А он начал выпускать журнал для народа «Сельское чтение» вместе с соиздателем А. П. Заблоцким-Десятовским. Первый номер вышел в 1843 году. В этом журнале были напечатаны статьи из самых разных областей знаний. Вопросы гигиены и медицины поднимались им, о вреде пьянства, грубого обращения, дурного воспитания, «о повальных болезнях», сельскохозяйственные материалы. Множество элементарных научных сведений по физике, астрономии, географии, музыке и литературе – вот далеко не полный перечень тем, волновавших писателя.
Журнал имел необыкновенный успех. Раскупали его нарасхват. Он переиздавался много раз и в течение длительного времени, удерживаясь на рынке, породил, по свидетельству Белинского «целую литературу для простонародия».
Занимаясь популяризацией знаний, он невольно пришел к вопросам воспитания и начал внимательно присматриваться к детскому миру. Свое отношение к детям писатель выразил в цикле сказок, которые он издал под псевдонимом «дедушка Иреней». Неувядаемая прелесть сказок Одоевского, – в частности, «Городок в табакерке», «Мороз Иванович» – трогает сердца и сейчас.
Чувство современности, огромный интерес к тому, чем жила Россия, не оставляла его. Он внимательно следил за произведениями Н. Чернышевского, М. Салтыкова, И. Тургенева, А. Островского, а в музыке – за новым поколением композиторов Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского.
Середина 1840-х годов. Министерством народного просвещения 12 июля 1846 года Владимир Федорович Одоевский, старший чиновник II Отделения собственной его императорского величества канцелярии, был утвержден помощником директора Публичной библиотеки и директором Румянцевского музея. До конца жизни он теснейшим образом был связан с его судьбой, много сделав для его реорганизации.
В начале 1850-х годов, к 25-летию царствования Николая I, активно обсуждалась на разных уровнях идея создания в Москве публичной библиотеки и план перемещения Румянцевского музея. В августе 1861 года закончился петербургский период в его истории. В Москве он был размещен в доме Пашкова. В это время В. Ф. Одоевский уже покинул пост директора.
19 июня 1862 года Император Александр II утвердил «Положение о Московском Публичном музеуме и Румянцевском Музеуме». Этот документ положил начало созданию нового, в дальнейшем крупнейшего национального центра просвещения. Для развития книжной культуры России это имело огромное значение.
На своем большом жизненном пути Владимир Федорович Одоевский всегда оставался современником и соучастником крупных событий русской жизни – от восстания декабристов до реформы 19 февраля 1861 года.
Князь Владимир Федорович Одоевский скончался 27 февраля (11 марта) 1869 года в Москве и был похоронен на кладбище Донского монастыря.
Новый год
(Из записок ленивца)
«Если записывать каждый день своей жизни, то чья жизнь не будет любопытна?» – сказал кто-то.
На это я мог бы очень смело отвечать: «Моя». Что может быть любопытного в жизни человека, который на сем свете ровно ничего не делал!
Я чувствовал, я страдал, я думал за других, о других и для других. Пишу свои записки, перечитываю и не нахожу в них только одного: самого себя. Такое самоотвержение с моей стороны должно расположить читателей в мою пользу: увидим, ошибся ли я в своем расчете, вот несколько дней не моей жизни; если они вам не слишком наскучат, то расскажу и про другие.
Действие I
– Вина! вина! наливай скорее; уже без пяти минут двенадцать.
– Неправда, еще целых полчаса осталось до Нового года… – отвечал Вячеслав, показывая с гордостью на свои деревянные часы с розанами на циферблате и чугунными гирями.
– Это по твоим часам: они всегда целым часом отстают!..
– Зато они иногда двумя часами бегут вперед; оно на то же и наведет, – заметил записной насмешник.
– Неправда, они очень верны, – возразил Вячеслав с досадою, – я их каждый день поверяю по городским…
– Сколько ему гордости придают его часы! – продолжал насмешник. – Купил у носящего за целковый, повесил на стену, смотрите, точно гостиная…
– Неправда, они куплены у часовщика, и за них заплачено двадцать пять рублей…
– Объявляю вам, господа, что от этой славной покупки у нас будет двумя бутылками меньше…
Так мы кричали, шумели, спорили и болтали всякий вздор накануне Нового года в маленькой комнатке Вячеслава в третьем этаже. Нас было человек двенадцать – все мы только что вышли из университета. Вячеслав был немногим богаче всех нас, но как-то щеголеватее и к тому же большой мастер устраивать в своей комнате и хозяйничать: например, у Вячеслава сверх табака водились всегда сыр и так называемое вино из ренскового погреба; в комнате, вместо классической железной кровати студента с байковым одеялом, стоял диван, обтянутый полосатою холстинкою; на этом диване лежали кожаные подушки, с которых на день снимались наволочки; возле дивана был растянут сплетенный из покромок ковер, от чего диван получал вид роскошного оттомана; книги лежали не на полу, по общему обыкновению, но на доске, прибитой к стене под коленкоровой занавеской; не только был стол для письма, но и еще другой стол особенно, хотя и без ящика; над единственным окошком висел кусок полотна; даже были вольтеровские кресла; наконец, знаменитые часы гордо размахивали маятником и довершали убранство комнаты.
Такое пышное устройство возбуждало всеобщую зависть и всеобщее удивление и с тем вместе было причиною, почему квартира Вячеслава была всегда местом наших собраний. Так было и сегодня. За месяц еще Вячеслав преважно пригласил нас встретить у него Новый год, обещая даже сделать жженку. Разумеется, отказа не было. Мы знали, что он уже давно хлопочет о приготовлениях, что заказан пирог и что, сверх обыкновенного его так называемого вина, будет по крайней мере три бутылки шампанского!
После смеха и шума, к двенадцати часам все пришло в порядок.
Как мы все уселись на трех квадратных саженях, я теперь уже не понимаю, только всем было место: кому на диване, кому на окошке, кому на столе, кому на полке; на одних вольтеровских креслах сидели, мне кажется, три человека! Вот на столе уже уставлены огромный пирог, огромный сыр, бутылки и, разумеется, череп – для того, чтоб наше пиршество больше приближалось к лукуллову. Двенадцать трубок закурились в торжественном молчании: но едва деревянные часы продребезжали полночь, мы чокнулись стаканами и прокричали «ура» Новому году. Правда, шампанское было немножко тепло, а горячий пирог был немножко холоден, но этого никто не заметил. Беседа была веселая. Мы только что вырвались из школьного заточения, мы только что вступали в свет: широкая дорога открывалась перед нами – простор молодому воображению. Сколько планов, сколько мечтаний, сколько самонадеянности и – сколько благородства! Счастливое время! Где ты?..
К тому же мы были люди важные: мы уже имели наслаждение видеть себя в печати – наслаждение, в первый раз неизъяснимое! Уже мы принадлежали к литературной партии и защищали одного добросовестного журналиста против его соперников и ужасно горячились. Правда, за то нам и доставалось. Сначала раздаватели литературной славы приняли было новых авторов с отеческим покровительством: но мы в порыве беспристрастия, в ответ на нежности, задели всех этих господ без милосердия. Такая неблагодарность с нашей стороны чрезвычайно их рассердила. В эту позорную эпоху нашей критики литературная брань выходила из границ всякой благопристойности: литература в критических статьях была делом совершенно посторонним: они были просто ругательство, площадная битва площадных шуток, двусмысленностей, самой злонамеренной клеветы и обидных применений, которые часто простирались даже до домашних обстоятельств сочинителя; разумеется, в этой бесславной битве выигрывали только те, которым нечего было терять в отношении к честному имени. Я и мои товарищи были в совершенном заблуждении: мы воображали себя на тонких философских диспутах портика или академии, или по крайней мере в гостиной; в самом же деле мы были в райке: вокруг пахнет салом и дегтем, говорят о ценах на севрюгу, бранятся, поглаживают нечистую бороду и засучивают рукава, – а мы выдумываем вежливые насмешки, остроумные намеки, диалектические тонкости, ищем в Гомере или Виргилии самую жестокую эпиграмму против врагов наших, боимся расшевелить их деликатность… Легко было угадать следствие такого неравного боя. Никто не брал труда справляться с Гомером, чтобы постигнуть всю едкость наших эпиграмм: насмешки наших противников в тысячу раз сильнее действовали на толпу читателей и потому, что были грубее, и потому, что менее касались литературы.
К счастию, это скорбное время прошло. Если бы остаткам героев того века и хотелось возобновить эту выгодную для них битву – такое предприятие едва ли увенчается успехом; общее презрение мало-помалу налегло на достойных презрения – и им уже не приподняться! Но тогда, – тогда другое дело. Многие из нас были задеты этими господами со всею лакейскою грубостью; насмешники были против нас, и, стыдно признаться, глупые шутки наших критиков звенели у нас в ушах; мы чувствовали всю справедливость нашего дела – и тем досаднее была нам несправедливость общего голоса. В зрелых летах человек привыкает к людской несправедливости, находит ее делом обыкновенным, часто горьким, чаще смешным; но в юности, когда так хочется верить всему высокому и прекрасному, несправедливость людей поражает сильно и наводит на душу невыразимое уныние. Этому состоянию духа должно приписать тот байронизм, в котором, может быть, уже слишком упрекают молодых людей и в котором бывает часто виновата лишь доброта и возвышенность их сердца. Люди бездушные никогда и ни о чем не тоскуют.
Как бы то ни было, эти нападки бесславных врагов, их торжество в общем мнении сближали товарищей в нашем маленьком кругу; здесь мы отдыхали; каждый знал труды другого; каждый по себе ценил усилия товарища; общая несправедливость была нам даже полезна: мы с большею бодростию поощряли друг друга к новым трудам и с каждым днем становились более строги к самим себе.
Наша беседа перед Новым годом была полна этой пламенной, этой живой, юношеской жизни. Сколько прекрасных надежд! Сколько планов, перемешанных с тонкими аттическими эпиграммами против наших гонителей!.. Вячеслав был душою нашего общества: он нам преважно доказал, что Новый год непременно должно начать чем-нибудь дельным, сам в качестве поэта схватил лист бумаги и стал импровизировать стихи, а нам предложил каждому выбрать себе какую-нибудь дельную, важную работу, которой надлежало предаться в течение года. Предложение было принято с восторгом – и в этот день мы погрозились читателям несколькими системами философии, несколькими курсами математики, несколькими романами и несколькими словарями. От близкой работы мы перешли к отдаленной: все отрасли деятельности были разобраны – кто обещался возвысить наукою воинственное имя своих предков; кто перенести в наш мир промышленности все знания Европы; кто на царской службе принести в жертву жизнь на поле брани или в тяжких трудах гражданских. Мы верили себе и другим, ибо мысли наши были чисты и сердце не знало расчетов. Между тем Вячеслав окончил свои стихи, в которых намекал о трудах, заказанных нами самим себе. Нет нужды сказывать, что мы провозгласили его истинным поэтом и убедительно ему доказывали, что его предназначение в этой жизни – развивать идею поэзии; долго потом, встречаясь, мы вместо обыкновенного «здравствуй» приветствовали друг друга стихами нашего поэта: они наводили светлый радужный отблеск на все наши мысли и чувства.
Мы расстались с дневным светом, обещали друг другу сбираться всем в этот день ежегодно у Вячеслава, несмотря на все препятствия, и давать друг другу отчет в исполнении своих обещаний.
Несколько лет мы были неразлучны. Многих судьба переменилась; кромчатый ковер заменился хитрыми изделиями английской промышленности; маленькая комнатка обратилась в пышные, роскошные хоромы; шампанское мерзло в серебряных вазах, наполненных химическим холодом, – но мы в честь старой студенческой жизни сходились запросто, в сюртуках, и по-прежнему делились откровенными мыслями и чувствами. Между тем некоторые из наших работ были начаты, большая часть – не окончены, остальные переменены на другие. Мало-помалу судьба разнесла нас по всем концам мира; оставшиеся сходились по-прежнему в первый день года; отсутствующие писали к нам, что они в эти дни мысленно переносились к друзьям: кто из цареградского храма св. Софии, кто с берегов Ориноко, кто от подошвы Эльборуса, кто с холмов древнего Рима.
Действие II
Прошло еще несколько лет. Судьба носила меня по разным странам. Я приехал в Москву накануне Нового года; искать Вячеслава – нет его: он в подмосковной верст за десять; я в том же экипаже в подмосковную, куда приехал около полуночи. Лошади быстро пронесли меня по запушенному снегом двору; в барском доме еще мелькал огонь. Прошед несколько слабо освещенных комнат, я дошел до кабинета. Вячеслав на коленях перед колыбелью спящего младенца; ему улыбалась прекрасная, в цвете лет женщина; он узнал меня и дал знак рукою, чтоб я говорил тише:
– Он только что стал засыпать, – сказал Вячеслав шепотом; жена его повторила эти слова. Несколько минут я смотрел с умилением на эту семейную картину. Видно было по всему, что в этом доме жили, а не кочевали; все было придумано с английскою прозорливостию для жизни семейной, ежедневной: стол был покрыт книгами и бумагами, мебель спокойная, необходимая занятому человеку; везде беспорядок, составляющий середину между порядком праздного человека и небрежностью ленивца; на креслах пюпитры для чтения, фортепьяно, начатая канва, развернутые журналы и, наконец, воспоминание прежней нашей жизни – студенческие деревянные часы. Я не успел еще осмотреться, когда младенец заснул крепким сном невинности. Вячеслав приподнялся от колыбели и сжал меня в своих объятиях.
– Это мой старый товарищ, – говорил он, знакомя с своею женою, – сегодня канун Нового года, надобно встретить его по старине.
Мы уселись втроем за маленьким столиком; в 12 часов чокнулись рюмками и стали вспоминать о былом, припоминать товарищей… Многих недосчитывались: кто погиб славною смертью на поле брани, кто умер не менее славною смертью, изнуренный кабинетным трудом и ночами без сна; кого убила безнадежная страсть, кого невозвратимая потеря, кого несправедливость людская; но половины уже не существовало в сем мире!