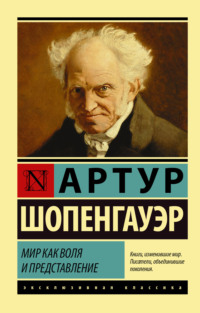
Мир как воля и представление
Итак, хотя отдельные сновидения отличаются от действительной жизни тем, что они не входят в постоянно пронизывающую ее общую связь опыта, и хотя пробуждение указывает на эту разницу, тем не менее именно самая связь опыта принадлежит действительной жизни как ее форма, и сновидение в свою очередь противопоставляет ей свою собственную внутреннюю связь. И если в оценке их встать на точку зрения за пределами жизни и сновидения, то мы не найдем в их существе определенного различия и должны будем вместе с поэтами признать, что жизнь – это долгое сновидение.
Если от этого вполне самостоятельного эмпирического источника вопроса о реальности внешнего мира мы вернемся к его умозрительному происхождению, то хотя мы и нашли, что оно заключено, во-первых, в неправильном применении закона основания, а именно между субъектом и объектом, во-вторых, в смешении его форм, а именно в перенесении закона основы познания в ту область, где царит закон основы становления, – тем не менее вопрос этот едва ли так настоятельно мог бы занимать философов, если бы он был лишен всякого истинного содержания и если бы в его существе не лежала верная мысль как его подлинный источник, о котором следовало бы предположить, что, лишь вступив в область рефлексии в поисках своего выражения, он получил такие превратные, непонятные самим себе формы и вопросы. Так, по моему мнению, обстоит дело, и как чистое выражение того внутреннего смысла проблемы, которого она не могла найти, я предлагаю следующее. Что представляет собой этот наглядный мир, помимо того, что он есть мое представление? Сознаваемый мною лишь в одном виде, а именно как представление, не есть ли он, подобно моему телу, осознаваемому мною двояко, не есть ли он, с одной стороны, представление, а с другой – воля! Разъяснение этого вопроса и утвердительный ответ на него составят содержание второй книги, а выводы из него займут остальную часть этого сочинения.
6Пока же, в этой первой книге, мы рассматриваем все только как представление, как объект для субъекта, и подобно всем другим реальным объектам и наше собственное тело, из которого у каждого человека исходит созерцание мира, мы рассматриваем только со стороны познаваемости, так что оно для нас есть только представление. Правда, сознание каждого, уже сопротивлявшееся провозглашению других объектов одними представлениями, еще сильнее противоборствует теперь, когда собственное тело должно быть признано всего лишь представлением. Это объясняется тем, что каждому вещь в себе известна непосредственно, поскольку она является его собственным телом, поскольку же она объективируется в других предметах созерцания, она известна каждому лишь опосредствованно. Однако ход нашего исследования делает эту абстракцию, этот односторонний метод, это насильственное разлучение того, что по существу своему едино, – необходимыми, и потому такое сопротивление следует до поры до времени подавить и успокоить ожиданием, что дальнейшее восполнит односторонность нынешних размышлений и приведет к полному познанию сущности мира.
Итак, тело для нас является здесь непосредственным объектом, т. е. тем представлением, которое служит для субъекта исходной точкой познания, ибо оно со своими непосредственно познаваемыми изменениями предшествует применению закона причинности и таким образом доставляет ему первоначальный материал. Все существо материи состоит, как было показано, в ее деятельности. Но действие и причина существуют только для рассудка, который есть не что иное, как их субъективный коррелат. Однако рассудок никогда не смог бы найти себе применения, если бы не было чего-то другого, откуда он исходит. И это другое – простое чувственное ощущение, то непосредственное сознание изменений тела, в силу которого последнее предстает как непосредственный объект. Поэтому для познания наглядного мира мы находим два условия. Первое, если мы выразим его объективно, это способность тел действовать друг на друга, вызывать друг в друге изменения, – без этого общего свойства всех тел, даже и при наличии чувствительности животных тел, созерцание было бы невозможно; если же это первое условие выразить субъективно, то оно гласит: только рассудок и делает возможным созерцание, ибо лишь из рассудка вытекает и лишь для него имеет значение закон причинности, возможность действия и причины, и лишь для него и через него существует поэтому наглядный мир. Второе условие – это чувствительность животных тел, или свойство некоторых тел быть непосредственно объектами субъекта. Простые изменения, которые испытывают органы чувств в силу их специфической приспособленности к внешним воздействиям, можно, пожалуй, называть уже представлениями, поскольку такие воздействия не пробуждают ни боли, ни удовольствия, т. е. не имеют непосредственного значения для воли и все-таки воспринимаются, существуя, следовательно, только для познания; в этом смысле я и говорю, что тело непосредственно познаваемо, что оно – непосредственный объект. Но понятие объект здесь нельзя принимать в его подлинном значении, ибо при помощи этого непосредственного познания тела, – познания, которое предшествует применению рассудка и является простым чувственным ощущением, – не самое тело собственно выступает объектом, а лишь воздействующие на него тела, так как всякое познание объекта в собственном смысле, т. е. пространственно-наглядного представления, существует только через рассудок и для него, – следовательно, не до его применения, а после. Поэтому тело как собственно объект, т. е. как наглядное представление в пространстве, подобно всем другим объектам познается лишь косвенно, через применение закона причинности к воздействию одной части тела на другую, – познается, например, тем, что глаз его видит, рука его осязает. Следовательно, одно общее самочувствие не знакомит нас с формой своего собственного тела, а только через познание, только в представлении, т. е. только в мозгу впервые является нам собственное тело как протяженное, расчлененное, органическое. Слепорожденный приобретает это представление лишь постепенно, с помощью чувственных данных, которыми его снабжает осязание; безрукий слепец никогда не смог бы узнать формы своего тела или, в крайнем случае, должен был бы постепенно заключать о ней и конструировать ее из воздействия на него других тел. Вот с каким ограничением надо понимать наши слова, что тело – это непосредственно объект.
В остальном, согласно сказанному, все животные тела являются непосредственными объектами, т. е. исходными точками созерцания мира для всепознающего и поэтому никогда не познаваемого объекта. Познание, вместе с обусловленным им движением по мотивам, составляет поэтому истинный характер животности, подобно тому как движение по раздражителям составляет характер растений; неорганическое же не имеет другого движения, кроме вызванного действительными причинами, в самом узком смысле этого слова. Все это я подробно выяснил в своем трактате о законе основания (20), в первой статье «Двух основных проблем этики» (III) и в сочинении «О зрении и цвете» (1), – туда я и отсылаю.
Из сказанного выходит, что все животные, даже самые несовершенные, обладают рассудком, ибо все они познают объекты, и это познание как мотив определяет их движение. Рассудок у всех животных и всех людей один и тот же, всюду имеет одну и ту же простую форму – познание причинности, переход от действия к причине и от причины к действию, и больше ничего. Но степени его остроты и пределы его познавательной сферы крайне разнообразны и расположены по многоразличным ступеням, начиная с низшей, где познается причинное отношение между непосредственным объектом и косвенным, т. е. где интеллекта хватает только на то, чтобы от воздействия, испытываемого телом, переходить к его причине и созерцать его как объект в пространстве, – и кончая высшими степенями познания причинной связи между одними косвенными объектами, которое доходит до проникновения в самые сложные сочетания причин и действий в природе. Ибо и это высокое познание тоже относится еще к рассудку, а не к разуму, абстрактные понятия которого могут служить только для восприятия, закрепления и объединения непосредственно понятого рассудком, но вовсе не могут создать самого понимания. Всякая сила и всякий закон природы, каждый случай, в котором они проявляются, сначала должны быть непосредственно познаны рассудком, интуитивно восприняты, прежде чем in abstracto войти для разума в рефлективное сознание. Интуитивным, непосредственным восприятием рассудка было открытие Р. Гуком закона тяготения и подведение под этот единый закон множества великих явлений, что впоследствии подтвердилось вычислениями Ньютона; тем же было и открытие Лавуазье кислорода и его важной роли в природе; тем же было и открытие Гете происхождения физических цветов. Все эти открытия есть не что иное, как правильный непосредственный переход от действия к причине, который вскоре влечет за собою познание тождества силы природы, проявляющейся во всех причинах той же категории. И постижение всего этого есть отличающееся только степенью проявление той же единственной функции рассудка, посредством которой и животное созерцает причину, действующую на его тело, как объект в пространстве. Вот почему и все эти великие открытия, подобно созерцанию и всем проявлениям рассудка, тоже представляют собой непосредственное усмотрение и как таковое суть создания минуты, appercu, догадки, а не продукт длинной цепи абстрактных умозаключений; последние же служат для того, чтобы фиксировать непосредственно познанное рассудком в абстрактных понятиях разума, т. е. уяснять его, делать его пригодным для истолкования другим.
Острота рассудка в восприятии причинных отношений между косвенно познаваемыми объектами находит себе применение не только в естествознании (всеми своими открытиями обязанном ей), но и в практической жизни, где она называется умом, – между тем как в первом ее приложении уместнее называть ее остроумием, проницательностью, прозорливостью. В точном смысле слова ум обозначает исключительно рассудок, состоящий на службе у воли. Впрочем, нельзя провести определенных границ между этими понятиями, ибо перед нами все та же функция того же рассудка, уже действующего во всяком животном при созерцании объектов в пространстве; на высших ступенях своей силы эта функция то правильно находит в явлениях природы по данному действию неизвестную причину и таким образом дает разуму материал для установления всеобщих правил как законов природы; то, приспособляя известные причины к целесообразным действиям, изобретает сложные и остроумные машины; то, обращаясь к мотивации, прозревает тонкие интриги и махинации и расстраивает их, или же точно распределяет людей соответственно тем мотивам, которым подчиняется всякий из них, и потом по собственному желанию приводит их в движение, как машины посредством рычагов и колес, и направляет их к определенным целям.
Недостаток рассудка в собственном смысле называется глупостью; это – именно тупость в применении причинного закона, неспособность к непосредственному восприятию сочетаний между причиной и действием, мотивом и поступком. Глупец не видит связи естественных явлений – ни там, где они представлены сами себе, ни там, где ими планомерно пользуются, т. е. в машинах: вот почему он охотно верит в колдовство и чудеса. Глупец не замечает, что отдельные лица, на вид независимые друг от друга, в действительности поступают по предварительному уговору между собой; вот почему его легко мистифицировать и интриговать – он не замечает скрытых мотивов в предлагаемых ему советах, в высказываемых суждениях и т. п. Всегда недостает ему одного: остроты, быстроты, легкости в применении причинного закона, т. е. недостает силы рассудка. Величайший и в рассматриваемом смысле самый поучительный пример глупости, какой мне приходилось когда-либо видеть, представлял совершенно тупоумный мальчик, лет одиннадцати, в доме умалишенных. Разум у него был, ибо он говорил и понимал; но по рассудку он стоял ниже многих животных. Когда бы я ни приходил, он рассматривал висевшее у меня на шее стеклышко-очко, в котором отражались комнатные окна и вершины поднимавшихся за ними деревьев: это зрелище приводило его каждый раз в большое удивление и восторг, и он не уставал изумляться ему, – он не понимал этой непосредственной причинности отражения.
Как у разных людей степень остроты рассудка бывает очень неодинакова, так еще больше различается она между разными породами животных. Однако у всех, даже наиболее близких к растениям, рассудка хватает настолько, сколько надо для перехода от действия в непосредственном объекте к опосредованному как причине, т. е. к созерцанию, восприятию объекта; ибо последнее именно и делает их животными, так как оно дает им возможность двигаться по мотивам и потому отыскивать или, по крайней мере, схватывать пищу, – между тем как растения двигаются только по раздражителям и должны либо дождаться их непосредственного воздействия, либо изнемочь, искать же или улавливать их они не в состоянии. Мы удивляемся большой смышлености самых совершенных животных, – например, собаки, слона, обезьяны, ум которой столь мастерски описал Бюффон. По этим наиболее умным животным мы можем с достаточной точностью измерить, насколько силен рассудок без помощи разума, т. е. без отвлеченного познания в понятиях: мы не можем так хорошо узнать это на себе самих, ибо в нас рассудок и разум всегда поддерживают друг друга. Вот почему проявления рассудка у животных часто оказываются то выше нашего ожидания, то ниже его. С одной стороны, нас поражает смышленость того слона, который, перейдя уже множество мостов во время путешествия по Европе, однажды отказался вступить на мост, показавшийся ему слишком неустойчивым для его тяжести, хотя и видел, как, по обыкновению, проходил через него остальной кортеж людей и лошадей. С другой стороны, нас удивляет, что умные орангутанги не подкладывают дров, чтобы поддержать найденный ими костер, у которого они греются; последнее доказывает, что здесь требуется уже такая сообразительность, которая невозможна без абстрактных понятий. Познание причины и действия как общая операция рассудка даже а priori присуще животным; это вполне видно уже из того, что для них, как и для нас, оно служит предварительным условием всякого наглядного познания внешнего мира. Если же угодно еще одно подтверждение этого, то стоит только припомнить, что, например, даже щенок при всем своем желании не решается спрыгнуть со стола, ибо он предвидит действие тяжести своего тела, хотя и не имеет соответственного данному случаю опыта. Однако при обсуждении рассудка животных мы должны остерегаться приписывать ему то, что служит проявлением инстинкта, – способности, вполне отличающейся по своему действию как от рассудка, так и от разума, но часто весьма похожей на соединенную деятельность обоих. Впрочем, разъяснение этого вопроса здесь неуместно, оно будет сделано при разборе гармонии, или так называемой телеологии природы, во второй книге; ему же всецело посвящена и 27-я глава дополнений.
Недостаток рассудка мы назвали глупостью; позже мы увидим, что недостаток применения разума на практике – это наивность; недостаток способности суждения – ограниченность; наконец, частичный или полный недостаток памяти – тупоумие. Но о каждом будет сказано в своем месте.
Правильно познанное разумом – истина, т. е. абстрактное суждение с достаточным основанием (см. «О четверояком корне закона основания», 29 и сл.); правильно познанное рассудком – реальность, т. е. правильный переход от действия в непосредственном объекте к его причине. Истине противоположно заблуждение как обман разума; реальности противоположна видимость как обман рассудка. Более подробное разъяснение всего этого можно найти в первой главе моего трактата о зрении и цветах.
Видимость возникает тогда, когда одно и то же действие могло быть вызвано двумя совершенно различными причинами, из которых одна действует очень часто, а другая – редко: рассудок, не имея данных для распознания, какая из двух причин здесь действует (ибо действие совсем одинаково), всегда предполагает обычную причину, и так как он действует не рефлективно и не дискурсивно, но прямо и непосредственно, то эта ложная причина предстоит нам как созерцаемый объект, каковой и есть ложная видимость. Как этим путем возникает двойное видение и двойное осязание, если органы чувств приведены в ненормальное положение, – это я выяснил в указанном месте и тем самым дал неопровержимое доказательство того, что созерцание существует только через рассудок и для рассудка. Другие примеры такого умственного обмана, или видимости, – это погруженная в воду палка, которая кажется переломленной; изображения в сферических зеркалах, при выпуклой поверхности являющиеся несколько позади нее, а при вогнутой значительно впереди. Сюда же относится мнимо больший объем луны на горизонте, чем в зените, что вовсе не есть оптическое явление, ибо, как показывает микрометр, глаз воспринимает луну в зените даже под несколько большим зрительным углом, чем на горизонте, но рассудок, который считает причиной ослабления лунного и звездного блеска на горизонте большую отдаленность луны и всех звезд, измеряя ее, как и земные предметы, воздушной перспективой, принимает поэтому луну на горизонте гораздо большей, чем в зените, и самый свод небесный горизонта – более раздвинутым, т. е. сплющенным. Это же неправильное измерение по воздушной перспективе заставляет нас считать очень высокие горы, вершина которых, только и видная нам, лежит в чистом, прозрачном воздухе, – считать их более близкими, чем это есть в действительности, в ущерб их высоте; таков Монблан, если смотреть на него из Салланша.
И все эти обманчивые явления стоят перед нами в нашем непосредственном созерцании, которого нельзя устранить никаким рассуждением разума. Последнее может предохранить только от заблуждения, т. е. от суждения недостаточно обоснованного, противопоставляя ему другое, истинное: например, разум может in abstracto признавать, что не большая отдаленность, а большая плотность воздуха на горизонте служит причиной ослабления лунного и звездного блеска, но видимость во всех приведенных случаях остается непоколебимой вопреки всякому абстрактному познанию, ибо рассудок полностью и резко отделен от разума как от познавательной способности, привходящей только у человека, да и у него рассудок сам по себе не разумен. Разум всегда может только знать, рассудку одному, независимо от влияния разума, остается только созерцание.
7По поводу рассмотренного до сих пор надо еще заметить следующее. В своем анализе мы исходили не из объекта и не из субъекта, а из представления, которое уже содержит в себе и предполагает их оба, так как распадение на объект и субъект является его первой, самой общей и существенной формой. Поэтому ее мы рассмотрели как таковую прежде всего, а затем (сославшись в главном на вступительный трактат) подвергли разбору и другие, ей подчиненные формы – время, пространство и причинность, которые свойственны только объекту; но так как они существенны для него как такового, а объект, в свою очередь, существен для субъекта как такового, то они могут быть найдены и из субъекта, т. е. познаны а priori, и в этом смысле на них можно смотреть как на общую границу обоих. Все же они могут быть сведены к общему выражению – закону основания, как я подробно показал в своем вступительном трактате.
Такой прием совершенно отличает нашу точку зрения от всех до сих пор предложенных философем, которые все исходили либо из объекта, либо из субъекта, и таким образом старались объяснить один из другого, опираясь при этом на закон основания; мы же, наоборот, освобождаем от власти последнего отношение между объектом и субъектом, отдавая во власть этого закона только объект. Могут, пожалуй, признать, что указанной альтернативы избежала возникшая в наши дни и получившая известность философия тождества, так как она принимает своей подлинной исходной точкой не объект и не субъект, а нечто третье – познаваемый разумным созерцанием абсолют, который не есть ни объект, ни субъект, но безразличие обоих. Хотя я, ввиду полного отсутствия у меня всякого «созерцания разумом», не дерзаю рассуждать об этом почтенном безразличии и абсолюте, все же, опираясь только на доступные всем, в том числе и нам, профанам, протоколы «созерцающих разумом», я должен заметить, что и эта философия не может быть исключена из упомянутой альтернативы двух ошибок. Ибо, несмотря на то что тождество субъекта и объекта не мыслится в ней, а интеллектуально созерцается и постигается через погружение в него, она не избегает обеих этих ошибок, наоборот, скорее соединяет в себе их обе, так как сама распадается на две дисциплины, а именно, во-первых, трансцендентальный идеализм, каковым является учение Фихте о Я и который, по закону основания, выводит или извлекает объект из субъекта, и, во-вторых, на натурфилософию, которая таким же образом из объекта постепенно делает субъект с помощью метода, называемого конструкцией (мне о нем очень мало известно, но ясно все же, что он представляет собой поступательное движение по закону основания в ряде форм). От глубокой мудрости, которая таится в той «конструкции», я заранее отрекаюсь, потому что для меня, совершенно лишенного «созерцания разумом», все учения, предполагающие его, должны быть книгой за семью печатями. И действительно, подобные глубокомысленные теории – странно сказать – производят на меня такое впечатление, будто я слышу только ужасное и крайне скучное пустозвонство.
Хотя системы, исходящие из объекта, всегда имеют своей проблемой весь наглядный мир и его строй, но объект, который они выбирают исходной точкой, не всегда является этим миром или его основным элементом – материей. Скорее эти системы поддаются делению согласно четырем классам возможных объектов, установленным в моем вступительном трактате. Так, можно сказать, что первый из этих классов, или реальный мир, был исходным пунктом для Фалеса и ионийцев, Демокрита, Эпикура, Джордано Бруно и французских материалистов. Из второго класса, или абстрактного понятия, исходили Спиноза (именно из чисто абстрактного и существующего лишь в своей дефиниции понятия субстанции), а раньше – элеаты. Из третьего класса, т. е. из времени и, следовательно, чисел, исходили пифагорейцы и китайская философия в «И-цзин». Наконец, четвертый класс, т. е. волевой акт, мотивированный познанием, был исходным пунктом схоластиков, учивших о творении из ничего – волевым актом внемирного, личного существа.
Наиболее последовательно и далеко можно провести метод объекта, если он выступает в виде настоящего материализма. Последний предполагает материю, а вместе с нею и время и пространство несомненно существующими и перепрыгивает через отношение к субъекту, тогда как в этом отношении ведь все это только и существует. Он избирает, далее, путеводной нитью для своего поступательного движения закон причинности, считая его самодовлеющим порядком вещей, veritas aeterna[13], перепрыгивая таким образом через рассудок, в котором и для которого только и существует причинность. Затем он пытается найти первичное, простейшее состояние материи и развить из него все другие, восходя от чистого механизма к химизму, к полярности, растительности, животности; и если бы ему это удалось, то последним звеном цепи оказалась бы животная чувствительность, – познание, которое явилось бы лишь простой модификацией материи, ее состоянием, вызванным причинностью. И вот если бы мы последовали за материализмом наглядными представлениями, то, достигнув вместе с ним его вершины, мы почувствовали бы внезапный порыв неудержимого олимпийского смеха, так как, словно пробужденные ото сна, заметили бы вдруг, что его последний, с таким трудом достигнутый результат – познание – предполагался как неизбежное условие уже в первой исходной точке, чистой материи, и хотя мы с ним воображали, что мыслим материю, но на самом деле разумели не что иное, как субъект, представляющий материю, глаз, который ее видит, руку которая ее осязает, рассудок, который ее познает. Таким образом, неожиданно разверзлось бы огромное petitio principii[14], ибо последнее звено вдруг оказалось бы тем опорным пунктом, на котором висело уже первое, и цепь обратилась бы в круг, а материалист уподобился бы барону Мюнхгаузену, который, плавая верхом в воде, обхватывает ногами свою лошадь и вытягивает себя самого за собственную косичку, выбившуюся наперед. Поэтому коренная нелепость материализма состоит в том, что он, исходя из объективного, принимает за последний объясняющий принцип объективное же, – будет ли это материя in abstracto, лишь как мыслимая, или материя, уже вступившая в форму, эмпирически данная, т. е. вещество, например химические элементы с их ближайшими соединениями.

