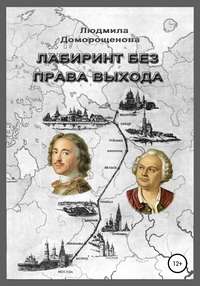
Лабиринт без права выхода. Книга 1. Загадки Ломоносова
Итак, данные кандидата в священники Михайлы Ломоносова были запротоколированы, протокол завершён достаточно суровым предостережением: «А буде он в сём допросе сказал что ложно, и за то священного сана будет лишён, и пострижен и сослан в жестокое подначальство в дальней монастырь». Полагая, очевидно, что делать запрос в Архангельск для подтверждения его слов у духовной канцелярии времени уже нет, Ломоносов лёгкой рукой подписал протокол допроса.
Однако тут же выяснилось, что Ставленнический стол всё же намерен проверить его показания о происхождении в Камер-коллегии (коллегия казённых сборов, куда поступали сведения со всей страны от земских фискалов). Пришлось во всём сознаваться. И что же? Несмотря на грозное предупреждение о неминуемой и жёсткой расправе, грубый подлог был прощён, хотя назначение и не состоялось. А если бы в Ставленническом столе не стали проверять слова кандидата на пост священника, так и не состоялся бы великий учёный?
И ещё одна «загадка Ломоносова» в связи с этим. После того как он признался в том, что является черносошным крестьянином, не имеющим никаких документов, а значит, находится в бегах, его должны были в лучшем случае «отрешить» от учёбы и отправить обратно в родные края – крестьянствовать. Ведь категорическое запрещение на обучение крестьянских детей (тем более – в высшем учебном заведении) никто не отменял. Обойти этот запрет, установленный на самом высоком уровне, можно было только разрешением, данным на этом же уровне: высочайшим указом об освобождении от подушного оклада, то есть выведении из крестьянского сословия. Да, потом это было сделано, например, для профессора математики М.Е. Головина – племянника Ломоносова и его земляка Ф.И. Шубина – известного скульптора. Но сам Михаил Васильевич такого исключения не получил. Как сообщал И.И. Лепёхину земляк учёного Гурьев: «А платёж подушных денег за душу Михайла Ломоносова происходил по смерти отца его со второй половины 741 года до второй 747 года половины из мирской общей той Куростровской волости от крестьян суммы».43
В начале следующего 1735 года сообщает упоминавшаяся «Летопись», Ломоносов получил от ректора академии новое назначение: отправиться «в Карелу», куда требовалось несколько человек «в священной чин». Однако на этот раз «он в духовной чин не похотел и отозвался». Но почему ректор-архиепископ так усиленно выпихивал его из академии в священники, если до главного в этой профессии предмета – богословия ученик ещё не добрался?
Возможно, проблема была в статусе Ломоносова. Ведь отправившийся в Киев студент терял своё место в Московской академии. Его должны были исключить из числа учеников этого учебного заведения, снять с довольствия, лишить денежного пособия и возможности пользоваться учебниками, посещать здесь занятия. Был ли он автоматически восстановлен в правах ученика после возвращения через год в Москву, рады ли были здесь его появлению, особенно после того, как выявилось, что он – тягловый мужик, крестьянин, кому путь в науку заказан? Почему, вернувшись, он не сел сразу за парту, а согласился отправиться в длительную экспедицию на Ори; было это добровольным или вынужденным шагом?
И только после провала этих планов Ломоносов заявил о том, что «желает по-прежнему учиться во оной же Академии». Ему ещё предстояло закончить изучение риторики, на что потребовался целый год. На знакомство с философией вместо двух лет оставалось всего полгода, а до богословия он так никогда и не доберётся, поскольку в конце 1735 года его срочно переведут в Петербург. В январе 1736 года Ломоносов будет зачислен студентом в академический университет.
В общей сложности будущий учёный, начав образование, как утверждают биографы, с «нуля», проучился в Москве (за вычетом времени пребывания в Киеве) четыре года. По словам
В.И. Ламанского, «за особенное счастье должно почитать, что судьба не дозволила Ломоносову пробыть в этих школах более…».
Петербург, 1736 год
В Петербурге его ждал новый «подарок судьбы»: начат набор группы студентов для обучения в Германии. Оказавшись (случайно ли?) в нужное время в нужном месте, Ломоносов начинает спешно учить немецкий язык, так как очень хочет попасть в число претендентов на зарубежную поездку. М.И. Верёвкин в примечаниях к своему уже упоминавшемуся здесь очерку пишет, что Ломоносову «способствовал и в том (выделено мною. – Л.Д.) бывший синодальным вице-президентом Новгородский и Великолуцкий архиепископ Феофан Прокопович».
На этот раз Ломоносов указан в документах правильно – сын крестьянина, но это почему-то уже никого не смущает. В Московскую академию в 1731 году крестьянину нельзя – пришлось назваться дворянином, в Оренбургскую экспедицию в 1734 году нельзя – назвался поповичем, а на учёбу в 1736 году в иностранные университеты, на что требовалось решение Сената и специальный императорский указ,– пожалуйста. И «стипендия» была положена царская – в сорок раз больше, чем в Московской академии! Случайно повезло?
В архивах Петербургской академии наук имеется одно весьма интересное письмо-извинение студента Ломоносова своему немецкому учителю Генкелю, написанное им в декабре 1739 года (очевидно, его переслал сюда сам Генкель). В этом письме есть такие слова, высказанные явно в запале, но в качестве решающего аргумента: «Да и те, чрез предстательства коих я покровительство всемилостивейшей государыни императрицы имею, не суть люди нерассудительные и неразумные»44. Так что дело было не только в Феофане, ни с того, ни с сего взявшем «шефство» над простым холмогорским парнем, а в каких-то и других рассудительных и разумных людях. Мы ещё встретимся с теми, «чрез предстательства коих» была создана эта невероятная коллизия: никому не известный, не знающий толком, чем заняться в жизни (наукой или церковной службой), ничем ещё не отличившийся молодой крестьянин и конкретно покровительствующая ему императрица (или, вернее, люди, действующие от её имени).
Учёбу в Германии инициировало, как пишут биографы, отсутствие в стране химика, знакомого с металлургией и горным делом. Химик потребовался, вроде бы, для одной из сибирских экспедиций (в 1720-80-х годах в Сибири работало несколько крупных экспедиций, совершивших великие географические открытия и положивших начало изучению здесь природных богатств). Стали искать за рубежом желающих познакомиться с Сибирью, но не нашли ни за какие деньги.
Узнав об этом, известный немецкий учёный-химик И.Ф. Генкель и предложил Петербургской академии наук свои услуги в подготовке специалистов данного профиля. Он считался тогда одним из ведущих европейских химиков и металлургов, был организатором и руководителем лаборатории горного дела во Фрейберге (земля Саксония). Из группы студентов, прибывших из Московской славяно-греко-латинской академии, для учёбы у господина Генкеля были отобраны 16-летний Д. Виноградов и 25-летний М. Ломоносов; в группу был включён также сын одного из руководителей Берг-коллегии (орган по руководству горнорудной промышленностью в России) 17-летний Г. Райзер, студент Петербургского университета. Из них, по официальным документам, только последний знал немецкий язык и имел хоть какое-то представление о деле, которым им предстояло заниматься после учёбы.
Генкель, узнав, что его будущие ученики из России не прошли даже вводный курс по наукам, необходимым для освоения горного дела, запросил за свою работу повышенный гонорар. И тогда кому-то из организаторов учёбы будущих «химиков, знакомых с рудным делом» (очень похоже, что это был именно Прокопович, хорошо знавший к тому времени способности и научные интересы Ломоносова), пришла в голову мысль об их предварительной теоретической подготовке в немецком городе Марбург. В июне 1736 года главным командиром (президентом) Петербургской академии наук Корфом было издано распоряжение: «Имеют оные три студента прежде в Марбург, в Гессию (земля Гессен. – Л.Д.) ехать, чтоб там в металлургии и в прочих науках положить основание и продолжать оные под смотрением профессора Волфа, к которому о том особливо писать, дабы он их по той инструкции, которая им дана будет, таким порядком содержал, чтоб они по прошествии двух лет в состоянии были к исполнению всемилостивейшего намерения Е.И.В. (здесь и далее – Её Императорское Величество. – Л.Д.) во Фрейберг и другие горные места, во Францию, Голландию и Англию, ездить для получения там большей способности в практике».
Как видно из этого распоряжения, Академия наук не ставила перед марбургскими учителями никаких сложных задач. Нужно было лишь дать присылаемым на учёбу студентам общие представления (положить основание, пишет г-н Корф) об естественных науках, с которыми им придётся иметь дело в дальнейшем.
У Вольфа в Марбурге
Небольшой провинциальный город Марбург мог быть выбран Петербургской Академией наук только по одному параметру: здесь в то время работал почётный член этой Академии философ-энциклопедист Х. Вольф. Изгнанный в 1723 году под страхом смерти в 24 часа из Галльского университета (Пруссия) «за атеизм», он был радушно принят в Саксонии и получил кафедру при Марбургском университете, где затем работал до смерти в 1740 году своего гонителя – императора Фридриха Вильгельма I. Гонение, как это часто бывает, вызвало особый интерес к его личности и созданной им философской системе не только в Германии, но и в Европе в целом.
Широко известный учёный пользовался популярностью и в России. Русский царь Пётр I благоволил к нему и обращался по разным вопросам. По его распоряжению Вольфу, которого, по-видимому, прочили на пост вице-президента Петербургской АН, был послан проект этой организации. Но в России этого учёного ждали не как метафизика, а как математика, физика, техника, что, однако, для Вольфа было уже не столь актуально. К тому времени он стал известным философом, основоположником собственного научного направления – вольфианства (самым известным и последовательным вольфианцем в России был, кстати, Феофан Прокопович). Назначение не состоялось, но Х. Вольфа избрали почётным членом Петербургской Академии наук с пожизненной пенсией в 300 рублей в год; в списках её он числился профессором математики.
Именно к этому универсально образованному человеку, «мировому мудрецу», как звали Вольфа в Европе, и были отправлены русские студенты. Отец Г. Райзера, участвовавший в организации поездки как специалист по горному делу, писал: «Я весьма одобряю предложение отправить молодых людей предварительно в Марбург. Ведь так как они должны сделаться не простыми лишь пробирерами и рудокопами, а учёными химиками и металлургами, то почти необходимо, чтобы они сначала несколько освоились с философскими, математическими и словесными науками».
Обрадовало ли Вольфа оказанное ему доверие в деле подготовки будущих учёных-химиков из России? Как видно по одному из его писем в Петербургскую Академию наук, вопреки ожиданиям вольфианцев из России он не предполагал придавать занятиям русских студентов философско-энциклопедический характер. План образования студентов «за морем» был задуман Корфом и старшим Райзером (с участием, несомненно, Прокоповича) широко, но на деле знания давались не глубоко, без теоретической проработки. Вольф писал: «В своих письмах я сообщал, что означенные молодые люди, обучившись арифметике, геометрии и тригонометрии, в настоящее время слушают у меня механику. При этом я главным образом обращаю их внимание на то, что необходимо для понимания машин, так как, по моему мнению, цель их занятий должна заключаться не столько в изучении замысловатых теорий, на которые у них вряд ли и достанет времени, сколько в усвоении того, что им впредь будет полезно для правильного понимания рудокопных машин». Вот так, папаша Райзер: нечего губу раскатывать, хватит с вас и рудокопов!
Горный советник Райзер, отправляя сына в Германию, был уверен, что «Марбург – место, которое прославлено Вольфом, и нет никакого сомнения, что там, по его распоряжению, кроме давно поселившихся эмигрантов, есть способные лица по всем полезным наукам». Но и в этом он ошибался. Кроме Вольфа в крошечном Марбургском университете, где в то время учились всего 122 студента (в другие годы численность их доходила даже до 50 человек), работали обычные преподаватели. Не случайно на протяжении четырёхсот лет его существования (до середины 20 века) здесь из России побывал на учёбе, кроме трёх молодых людей, о которых мы ведём речь, только писатель и поэт Борис Пастернак. Летом 1912 года он изучал философию у главы марбургской неокантианской школы профессора Г. Когена.
В своей автобиографической повести «Охранная грамота» (1929) писатель оставил, кстати, очень интересные заметки о Марбурге: «Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбницеву ученику Христиану Вольфу, и никого ещё тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же нежданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней… Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, заворожённую на живом слёте к сменённой кормушке».
Вольфу приходилось читать лекции почти по 20 предметам. Он преподавал здесь высшую математику, астрономию, алгебру, физику, оптику, механику, военную и гражданскую архитектуру, логику, метафизику, нравственную философию, политику, естественное право, право войны и мира, международное право, географию, а также занимался проблемами эстетики и психологии. Правда, ни в одной из перечисленных областей, считают историки науки, он не сказал ничего принципиально нового, будучи, по сути, систематизатором уже накопленных европейской мыслью знаний, популяризатором идей своего гениального предшественника в философии и естествознании Лейбница.
Свои занятия у Вольфа Ломоносов начал с обучения «первоначальным основаниям арифметики и геометрии». Позднее учёный писал: «Математику для того изучать должно, что она ум в порядок приводит». Когда он это понял: в Германии, во время учёбы у Вольфа, в Москве или Киеве, где искал знаний по физике и математике? Или были другие, неведомые нам пока наставники, которые в ещё более юном возрасте «привели в порядок его ум», поставили на путь постижения неведомых в его крестьянском мире наук?
А.А. Морозов в уже упоминавшемся нами биографическом повествовании о Ломоносове писал: «Вольф не торопился с обучением присланных к нему студентов. Он полагал, что им надо ещё приобрести основательное знание немецкого языка, чтобы слушать его лекции». Дело в том, что все профессора Марбургского университета читали лекции на латыни и только Вольф принципиально, подражая своему учителю Лейбницу,– на немецком языке.
Не особо напрягало и расписание учебных занятий, составленное Вольфом для опекаемых им русских студентов: с 10 до 11 часов утра – рисование, с 11 до 12 часов – лекции по теоретической физике (с 12 до 4 часов дня, очевидно, обед и отдых), с 4 до 5 часов дня – лекции по логике, в другие часы – французский язык, самостоятельные занятия и уроки фехтования. Это расписание даже невозможно сравнить, например, с распорядком дня в школе Феофана Прокоповича для детей-сирот на Карповке в Петербурге: в 6 утра – подъём, в 7 – уборка, после – молитва, завтрак; с 8 утра и до 8 вечера занятия (Закон Божий, риторика, логика, русский, латинский и греческий языки, арифметика, геометрия, музыка, история, а также рисование, пение, поэтика). Примерно такое же расписание занятий было и в Московской школе пастора Глюка, с которой мы встретимся позже. Уверена, что не менее напряжённой была программа и в школах Выговской пустыни, куда старообрядцы отправляли детей на учёбу.
Правда, к концу «марбургского периода», судя по отчёту Вольфа в Академию наук от 15 октября 1738 года, учебные нагрузки Ломоносова и его товарищей увеличились: утром с 9 часов до 10 – занятия по экспериментальной физике, с 10 до 11 – рисование (обратим внимание на то, что рисование присутствует в расписании занятий во всё время учёбы в Марбурге), с 11 до 12 – теоретическая физика; далее – перерыв на обед и отдых; пополудни с 3 до 4 часов – занятия метафизикой, с 4 до 5 – логикой. Современным бы студентам такое расписание для облегчения жизни.
Так справедливо ли считать Вольфа главным учителем Ломоносова, развившим его ум? Правы ли те, кто считает, что только Вольфу и Марбургскому университету Ломоносов был обязан своей научной подготовкой? Что именно здесь он начал «двигаться к созданию целостной системы мышления на почве естественнонаучных знаний»? Например, русский писатель второй половины 19 века А.И. Львович-Кострица именно так и писал: «Ломоносов обязан Марбургскому университету своими обширными познаниями в науках и солидным умственным развитием»45.
Но вот ещё одно мнение уже не раз упоминавшегося здесь А.А. Морозова: «Общий метафизический характер мировоззрения Вольфа пагубно сказывался и на изложении им специальных дисциплин. Вольф не любил отказываться от „истин”, уже принятых в его „систему”, и в этом отношении мало считался с дальнейшим ходом развития естествознания. Достаточно сказать, что программы его лекций по физике и другим точным наукам, которые Вольф читал в 1718 году в Галле, были без всякого изменения перепечатаны в 1734 году в Марбурге, хотя за это время много воды утекло, и точные науки испытали, пользуясь словами Ломоносова, „знатное приращение”».
Писатель, литературовед, автор множества популярных работ Д.К. Мотольская (1907-2005) утверждала: «Ломоносов не считал Вольфа своим руководителем в области философии. Показательно, что в тех случаях, когда Ломоносов ссылается на философские авторитеты, он никогда не упоминает Вольфа»46.
Доктор физико-математических наук, преподаватель МГУ, старший научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Ю.Д. Нечипоренко в своей книге «Помощник царям: Жизнь и творения Михаила Ломоносова», у которой семь рецензентов, в том числе четыре доктора физико-математических наук, пишет: «Хотя Вольф придавал математике большое значение, но он больше философствовал и не обучал Ломоносова высшей математике. В трудах Ломоносова почти нет формул: есть определения, объяснения, описания и опыты, но нет математики… Кажется, только в математике Ломоносов не сделал никаких открытий. В том, что Ломоносов не освоил подхода Ньютона и Лейбница в науке, заключалась одна из причин его драмы как учёного: многие явления он понимал верно, описывал точно, но не мог облечь эти описания в формулы»47.
Сам Вольф, вынужденный стать не только учителем, но и протектором (защитником, покровителем) для русских студентов, регулярно сообщающим президенту Петербургской Академии наук об успехах и поведении студентов, достаточно осторожно оценивал потенциал подопечных. В письме президенту Академии наук Корфу от 17 августа 1738 года он сообщал: «У г. Ломоносова, по-видимому, самая светлая голова между ними; при хорошем прилежании он мог бы научиться многому, выказывая большую охоту и желание учиться». То есть Вольф не очень доволен прилежанием Ломоносова, успехи этого студента могли быть, по его мнению, более значительными, если бы он проявлял больше охоты и желания учиться.
И позднее в письмах в Петербург себе особых заслуг в научном развитии Ломоносова Вольф не приписывал: «Молодой человек преимущественного остроумия, Михайло Ломоносов, с того времени, как для учения в Марбург приехал, часто мои математические и философские, а особливо физические лекции слушал и безмерно любил основательное учение. Ежели впредь с таким рачением простираться будет, то не сомневаюсь, чтобы, возвратясь в отечество, не принёс пользы, чего от сердца желаю». То есть здесь Х. Вольф хотел, как я понимаю, сказать, что Ломоносов имел более, чем у двух других русских студентов (подростков!), развитый ум («преимущественное остроумие»); въедливо докапывался до сути освещаемых преподавателем вопросов («любил основательное учение»), что может свидетельствовать о том, что в принципе он уже знал, что в этом учении основательное, а что – нет. В целом же: вы хотели специалиста, который принесёт пользу вашему отечеству,– думаю, что из него такой специалист в будущем, возможно, получится. При хорошем прилежании и рачении, конечно.
А вот итоговое письмо Х. Вольфа в Петербургскую АН от 21 июля 1739 года: «…мне остаётся только ещё заметить, что они время своё провели здесь не совсем напрасно (выделено мною. – Л.Д.). Если, правда, Виноградов, со своей стороны, кроме немецкого языка, вряд ли научился многому, и из-за него мне более всего приходилось хлопотать, чтобы он не попал в беду и не подвергался академическим взысканиям, то я не могу не сказать, что в особенности Ломоносов сделал успехи и в науках». Эта оговорка «сделал успехи и в науках» очень похожа на иронию.
Спустя годы Ломоносов называл Вольфа своим «благодетелем» («благодеяния которого по отношению ко мне я не могу забыть»48) и «учителем», ставя «благодетеля» впереди «учителя». И, как уже было отмечено, вольфианцем Михаил Васильевич не стал. Даже в своих ученических образцах знаний – «специменах», посылаемых из Германии в Петербург через Вольфа, он из общих философских положений учителя ссылается только на закон достаточного основания («ничто не может совершаться без достаточного основания»). А в будущем твёрдо стоял в философии «на позиции механического материализма»49.
Особое значение во время учёбы в Германии студент Ломоносов придавал, как известно, занятиям химией, которые, собственно, и являлись основанием для зарубежной поездки будущего учёного. А что представляла собой эта наука в первой половине 18 века? Профессор химии Б.Н. Меншуткин (1874-1938) писал в своей книге «Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова»: «Прежде всего, надо иметь в виду, что в течение длинного ряда веков собственно химии не было, была алхимия, где все операции производились в строгом секрете, и, если опубликовывались, то таким иносказательным языком, что по существу только посвящённые в таинственные обозначения, применяемые тем или иным автором, могли что-нибудь понять в алхимических книгах. Лица, занимавшиеся в средние века прикладной химиею, разного рода химическими производствами, тоже, понятно, свои способы и рецепты не делали достоянием гласности, но тщательно передавали их из рода в род»50.
Именно этими историческими причинами автор объясняет то, что «индуктивный метод исследования, который начинает применяться вообще в естественных науках с 16 века, где опыт является пробным камнем всякого предположения, всякой гипотезы, в 18 веке сравнительно мало коснулся химии». То есть в первой половине 18 века химия в мировом, так сказать, масштабе ещё была по существу алхимией, а учёные-химики мало экспериментировали и редко проверяли свои догадки опытами.
В России в это время химией, особенно на научном уровне, вообще никто не занимался. Известно, что в Петербургской Академии наук тогда даже отдельной кафедры химии не было: эта дисциплина входила в кафедру естественной истории. При том главный администратор Академии И.Д. Шумахер в 1745 году оправдывался: «Подлинно, что поныне никакой химической лаборатории не заведено, и я должен признаться, что при Академии никакая наука так худого успеха не имела, как сия (т.е. химия. – Л.Д.)». Первая научная химическая лаборатория была построена после неоднократных настойчивых требований М.В. Ломоносова только в 1748 году; её вчерашний студент и будущий первый российский химик начал «пробивать» практически сразу же, как только обосновался в Академии наук.
Лабораторию эту известный советский химик академик АН БССР М.А. Безбородов называл силикатной, так как, писал он, «стекло, представляющее собой „первый продукт философии химии”, по выражению средневековых алхимиков, было одним из главных научных увлечений и предметом настойчивых занятий Ломоносова»51. Михаил Васильевич экспериментировал здесь в основном с цветными стёклами (прозрачными и «глухими» – смальтами) и даже воссоздал так называемый «философский камень» средневековых алхимиков – золотой рубин, а также изготовлял многие искусные подделки под натуральные драгоценные камни. Откуда же у него этот «алхимический» интерес именно к силикатам?
Возможную причину особого интереса Ломоносова к стеклу высказал известный советский учёный, специалист в области химии силикатов Н.Н. Качалов (1883-1961). В то время как большинство исследователей склонялись к мнению, что именно увиденные М.В. Ломоносовым в 1746 году итальянские мозаичные картины возбудили в нём желание во что бы то ни стало воспроизвести их, Качалов считал, что близкое знакомство учёного со стёклами и другими силикатными расплавами произошло в процессе изучения им технологии горнорудного и металлического дела, где шлаки занимают очень важное место.
Это подтверждает и открытие уже упоминавшейся нами здесь Г.Н. Моисеевой, которая обнаружила в середине 20 века в Киеве десятки книг, с которыми работал Ломоносов, оставивший на полях этих рукописных и печатных изданий пометы. В том числе его пометы выявлены и на книге «Первые основания металлургии или рудных дел». По ним видно, что студент читал книгу не ознакомительно, а вполне профессионально; так, сравнивая климат Москвы, Петербурга и Киева, он указывает на влияние этого фактора на формирование залежей полезных ископаемых. И это через три года учёбы в начальных классах Московской духовной академии! Ясно, что основания металлургии и рудных дел ему уже давно знакомы как практически, так и теоретически.

