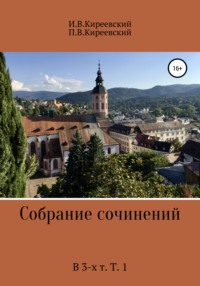
Собрание сочинений. В 3-х т. Т. 1
Вот вопрос, как он существенно важен для каждого из нас: направление туда или сюда, а не приобретение того или другого.
Рассматривая основные начала жизни, образующие силы народности в России и на Западе, мы с первого взгляда открываем между ними одно очевидно общее: это христианство. Различие заключается в особенных видах христианства, в особенном направлении просвещения, в особенном смысле частного и народного быта. Откуда происходит общее, мы знаем, но откуда происходит различие и в чем заключается его характеристическая черта?
Два способа имеем мы для того, чтобы определить особенность Запада и России, и один из них должен служить поверкою другому. Мы можем или, восходя исторически к началу того или другого вида образованности, искать причину различия их в первых элементах, из которых они составились, или, рассматривая уже последующее развитие этих элементов, сравнивать самые результаты. И если найдется, что то же различие, какое мы заметим в элементах, окажется и в результатах их развития, тогда очевидно, что предположение наше верно, и, основываясь на нем, нам уже виднее будет, какие можно делать из него дальнейшие заключения.
Три элемента легли основанием европейской образованности: римское христианство, мир необразованных варваров, разрушивших Римскую империю, и классический мир древнего язычества.
Этот классический мир древнего язычества, не доставшийся в наследие России, в сущности своей представляет торжество формального разума человека над всем, что внутри и вне его находится, – чистого, голого разума, на себе самом основанного, выше себя и вне себя ничего не признающего и являющегося в двух свойственных ему видах – в виде формальной отвлеченности и отвлеченной чувственности. Действие классицизма на образованность европейскую должно было соответствовать тому же характеру.
Но потому ли, что христиане на Западе поддались беззаконно влиянию классического мира или случайно ересь сошлась с язычеством, но только Римская церковь в уклонении своем от Восточной отличается именно тем же торжеством рационализма над Преданием, внешней разумности над внутренним духовным разумом. Так вследствие этого внешнего силлогизма, выведенного из понятия о Божественном равенстве Отца и Сына, изменен догмат о Троице[35], в противность духовному смыслу и Преданию; так вследствие другого силлогизма папа стал главою церкви вместо Иисуса Христа, потом мирским властителем, наконец, непогрешаемым; бытие Божие во всем христианстве доказывалось силлогизмом; вся совокупность веры опиралась на силлогистическую схоластику; инквизиция, иезуитизм – одним словом, все особенности католицизма развились силою того же формального процесса разума, так что и самый протестантизм, который католики упрекают в рациональности, произошел прямо из рациональности католицизма[36]. В этом последнем торжестве формального разума над верою и Преданием проницательный ум мог уже наперед видеть в зародыше всю теперешнюю судьбу Европы как следствие вотще начатого начала, т. е. и Штрауса[37], и новую философию со всеми ее видами, и индустриализм как пружину общественной жизни, и филантропию, основанную на рассчитанном своекорыстии, и систему воспитания, ускоренную силою возбужденной зависти, и Гёте, венец новой поэзии, литературного Талейрана, меняющего свою красоту, как тот свои правительства, и Наполеона, и героя нового времени, идеал бездушного расчета, и материальное большинство, плод рациональной политики, и Лудвига Филиппа, последний результат таких надежд и таких дорогих опытов!
Я совсем не имею намерения писать сатиру на Запад: никто больше меня не ценит тех удобств жизни общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализма. Да если говорить откровенно, я и теперь еще люблю Запад, я связан с ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками; но в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоящею жизнию. Потому, вполне оценивая все отдельные выгоды рациональности, я думаю, что в конечном развитии она своею болезненною неудовлетворительностию явно обнаруживается началом односторонним, обманчивым, обольстительным и предательским. Впрочем, распространяться об этом было бы здесь неуместно. Я припомню только, что все высокие умы Европы жалуются на теперешнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, на всеобщий эгоизм, требуют новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины жизни вне расчета – одним словом, ищут веры и не могут найти ее у себя, ибо христианство на Западе исказилось своемыслием.
Таким образом, рационализм и вначале был лишним элементом в образовании Европы, и теперь является исключительным характером просвещения и быта европейского. Это будет еще очевиднее, если мы сравним основные начала общественного и частного быта Запада с основными началами того общественного и частного быта, который если не развивался вполне, то по крайней мере ясно обозначился в прежней России, находившейся под прямым влиянием чистого христианства, без примеси мира языческого.
Весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии о индивидуальной, отдельной независимости, предполагающей индивидуальную изолированность. Оттуда святость внешних формальных отношений, святость собственности и условных постановлений важнее личности. Каждый индивидуум – частный человек, рыцарь, князь или город внутри своих прав – есть лицо самовластное, неограниченное, само себе дающее законы. Первый шаг каждого лица в общество есть окружение себя крепостию, из нутра которой оно вступает в переговоры с другими и независимыми властями.
В прошедший раз я не докончил статьи моей, а потому обязан продолжать ее теперь. Я говорил о различии просвещения в России и на Западе. У нас образовательное начало заключалось в нашей церкви. Там вместе с христианством действовали на развитие просвещения еще плодоносные остатки древнего языческого мира. Самое христианство западное, отделившись от вселенской церкви, приняло в себя зародыши того начала, которое составляло общий оттенок всего греко-языческого развития, – начала рационализма. Потому и характер образованности европейской отличается перевесом рациональности.
Впрочем, этот перевес обнаружился только впоследствии, когда логическое развитие, можно сказать, уже задавило христианское. Но вначале рационализм, как я сказал, является только в зародыше. Римская церковь отделилась от Восточной тем, что некоторые догматы, существовавшие в Предании всего христианства, она изменила на другие, вследствие умозаключения. Некоторые распространила, вследствие того же логического процесса и также в противность преданию и духу церкви вселенской. Таким образом, логическое убеждение легло в самое первое основание католицизма. Но этим и ограничилось действие рационализма на первое время.
Внутреннее и внешнее устройство церкви, уже совершившееся прежде в другом духе, до тех пор существовало без очевидного изменения, покуда вся совокупность церковного учения не перешла в сознание мыслящей части духовенства. Это совершилось в схоластической философии, которая, по причине логического начала в самом основании церкви, не могла иначе согласить противоречие веры и разума, как силою силлогизма, сделавшегося таким образом первым условием всякого убеждения. Сначала, естественно, этот же самый силлогизм доказывал веру против разума и подчинял ей разум силою разумных доводов. Но эта вера, логически доказанная и логически противопоставленная разуму, была уже не живая, но формальная вера, не вера собственно, а только логическое отрицание разума. Потому в этот период схоластического развития католицизма, именно по причине рациональности своей, Западная церковь является врагом разума, угнетающим, убийственным, отчаянным врагом его. Но, развившись до крайности, продолжением того же логического процесса, это безусловное уничтожение разума произвело то известное противодействие, которого последствия составляют характер теперешнего просвещения. Вот что я разумел, говоря о рациональном элементе католицизма.
Христианство восточное не знало ни этой борьбы веры против разума, ни этого торжества разума над верою. Потому и действия его на просвещение были не похожи на католические.
Рассматривая общественное устройство прежней России, мы находим многие отличия от Запада и, во-первых, образование общества в маленькие так называемые миры. Частная, личная самобытность, основа западного развития, была у нас так же мало известна, как и самовластие общественное. Человек принадлежал миру, мир ему. Поземельная собственность, источник личных прав на Западе, была у нас принадлежностью общества. Лицо участвовало во столько в праве владения, во сколько входило в состав общества.
Но это общество не было самовластное и не могло само себя устраивать, само изобретать для себя законы, потому что не было отделено от других ему подобных обществ, управлявшихся однообразным обычаем. Бесчисленное множество этих маленьких миров, составлявших Россию, было все покрыто сетью церквей, монастырей, жилищ уединенных отшельников, откуда постоянно распространялись повсюду одинакие понятия об отношениях общественных и частных. Понятия эти мало-помалу должны были переходить в общее убеждение, убеждение – в обычай, который заменял закон[38], устраивая по всему пространству земель, подвластных нашей церкви, одну мысль, один взгляд, одно стремление, один порядок жизни. Это повсеместное однообразие обычая было, вероятно, одною из причин его невероятной крепости, сохранившей его живые остатки даже до нашего времени, сквозь все противодействие разрушительных влияний, в продолжение двухсот лет стремившихся ввести на место его новые начала.
Вследствие этих крепких, однообразных и повсеместных обычаев всякое изменение в общественном устройстве, не согласное со строем целого, было невозможно. Семейные отношения каждого были определены прежде его рождения; в таком же предопределенном порядке подчинялась семья миру, мир более обширный – сходке, сходка – вечу и т. д., покуда все частные круги смыкались в одном центре, в одной православной церкви. Никакое частное разумение, никакое искусственное соглашение не могло основать нового порядка, выдумать новые права и преимущества. Даже самое слово право было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало только справедливость, правду. Потому никакая власть никакому лицу, ни сословию не могла ни даровать, ни уступить никакого нрава, ибо правда и справедливость не могут ни продаваться, ни браться, но существуют сами по себе, независимо от условных отношений. На Западе, напротив того, все отношения общественные основаны на условии или стремятся достигнуть этого искусственного основания. Вне условия нет отношений правильных, но является произвол, который в правительственном классе называют самовластием, в управляемом – свободою. Но и в том и в другом случае этот произвол доказывает не развитие внутренней жизни, а развитие внешней, формальной. Все силы, все интересы, все права общественные существуют там отдельно, каждый сам по себе, и соединяются не по нормальному закону, а – или в случайном порядке, или в искусственном соглашении. В первом случае торжествует материальная сила, во втором – сумма индивидуальных разумений. Но материальная сила, материальный перевес, материальное большинство, сумма индивидуальных разумений, в сущности, составляют одно начало, только в разных моментах своего развития. Потому общественный договор[39] не есть изобретение энциклопедистов, но действительный идеал, к которому стремились без сознания, а теперь стремятся с сознанием все западные общества под влиянием рационального элемента, переносившего элемент христианский.
В России мы не знаем хорошо границ княжеской власти прежде подчинения удельных княжеств московскому, но, если сообразим, что сила неизменяемого обычая делала всякое самовластное законодательство невозможным; что разбор и суд, который в некоторых случаях принадлежал князю, не мог совершаться несогласно со всеобъемлющими обычаями, ни толкование этих обычаев, по той же причине, не могло быть произвольное; что общий ход дел принадлежал мирам и приказам, судившим также по обычаю вековому и потому всем известному; наконец, что в крайних случаях князь, нарушавший правильность своих отношений к народу и церкви, был изгоняем самим народом, – сообразивши все это, кажется очевидно, что собственно княжеская власть заключалась более в предводительстве дружин, чем во внутреннем управлении, более в вооруженном покровительстве, чем во владении областями[40].
Вообще, кажется, России так же мало известны были мелкие властители Запада, употреблявшие общество как бездушную собственность в свою личную пользу, как ей неизвестны были и благородные рыцари Запада, опиравшиеся на личной силе, крепостях и железных латах, не признававшие другого закона, кроме собственного меча и условных правил чести, основанных на законе самоуправства.
Впрочем, рыцарства у нас не было по другим причинам.
С первого взгляда кажется непонятным, почему у нас не возникло чего-нибудь подобного рыцарству, по крайней мере во время татар? Общества были разрознены, власть не имела материальной силы, каждый мог переходить с места на место, леса были глубокие, полиция была еще не выдумана; отчего бы, кажется, не составиться обществам людей, которые бы пользовались превосходством своей силы над мирными земледельцами и горожанами, грабили, управлялись, как хотели, захватили бы себе отдельные земли, деревни и строили бы там крепости; составили бы между собой известные правила и, таким образом, образовали бы особенный класс сильнейшего сословия, которое, по причине силы, могло бы назваться и благороднейшим сословием? Церковь могла бы воспользоваться ими, образуя из них отдельные ордена с отдельными уставами и употребляя их против неверных, подобно западным крестоносцам. Отчего же не сделалось этого?
Именно потому, я думаю, что церковь наша в то время не продавала чистоты своей за временные выгоды. У нас были богатыри только до введения христианства. После введения христианства у нас были разбойники, шайки устроенные, еще до сих пор сохранившиеся в наших песнях, но шайки, отверженные церковью и потому бессильные. Ничего не было бы легче, как возбудить у нас крестовые походы, причислив разбойников к служителям церкви и обещав им прощение грехов за убиение неверных: всякий пошел бы в честные разбойники. Католицизм так и действовал: он не поднял народы за веру, но только бродивших направил к одной цели, назвав их святыми. Наша церковь этого не сделала, и потому мы не имели рыцарства, а вместе с ним и того аристократического класса, который был главным элементом всего западного образования.
Где больше было неустройства на Западе, там больше и сильнее было рыцарство; в Италии его было всего менее. Где менее было рыцарства, там более общество склонялось к устройству народному, где более, там более к единовластному. Единовластие само собой рождается из аристократии, когда сильнейший покоряет слабейших и потом правитель на условиях переходит в правителя безусловного, соединяясь против класса благородных с классом подлых, как Европа называла народ. Этот класс подлых, по общей формуле общественного развития Европы, вступил в права благородного, и та же сила, которая делала самовластным одного, естественным своим развитием переносила власть в материальное большинство, которое уже само изобретает для себя какое-нибудь формальное устройство и до сих пор еще находится в процессе изобретения.
Таким образом, как Западная церковь образовала из разбойников рыцарей, из духовной власти власть светскую, из светской полиции святую инквизицию, что все, может быть, имело свои временные выгоды, – таким же образом действовала она и в отношении к наукам, искусствам языческим. Не изнутри себя произвела она новое искусство христианское, но прежнее, рожденное и воспитанное другим духом, другою жизнию, направила к украшению своего храма. Оттого искусство романтическое заиграло новою блестящею жизнию, но окончилось поклонением язычеству и теперь кланяется отвлеченным формулам философии, покуда не возвратится мир к истинному христианству и не явится миру новый служитель христианской красоты.
Науки существенною частию своею, т. е. как познания, принадлежат равно языческому и христианскому миру и различаются только своею философскою стороною. Этой философской стороны христианства католицизм не мог сообщить им потому, что сам не имел ее в чистом виде. Оттого видим мы, что науки, как наследие языческое, процветали так сильно в Европе, но окончились безбожием как необходимым следствием своего одностороннего развития.
Россия не блестела ни художествами, ни учеными изобретениями, не имея времени развиться в этом отношении самобытно и не принимая чужого развития, основанного на ложном взгляде и потому враждебного ее христианскому духу. Но зато в ней хранилось первое условие развития правильного, требующего только времени и благоприятных обстоятельств: в ней собиралось и жило то устроительное начало знания, та философия христианства, которая одна может дать правильное основание наукам. Все Святые Отцы греческие, не исключая самых глубоких писателей, были переведены, и читаны, и переписываемы, и изучаемы в тишине наших монастырей, этих святых зародышей несбывшихся университетов. «Исаак Сирин»[41], глубокомысленнейшее из всех философских писаний, до сих пор еще находится в списках XII–XIII веков. И эти монастыри были в живом, беспрестанном соприкосновении с народом. Какое просвещение в нашем подлом классе не вправе мы заключить из этого одного факта! Но это просвещение не блестящее, но глубокое, не роскошное, не материальное, имеющее целью удобства наружной жизни, но внутреннее, духовное; это устройство общественное, без самовластия и рабства, без благородных и подлых; эти обычаи вековые, без писаных кодексов, исходящие из церкви и крепкие согласием нравов с учением веры; эти святые монастыри, рассадники христианского устройства, духовное сердце России, в которых хранились все условия будущего самобытного просвещения; эти отшельники, из роскошной жизни уходившие в леса, в недоступных ущельях изучавшие писания глубочайших мудрецов христианской Греции и выходившие оттуда учить народ, их понимавший; эти образованные сельские приговоры; эти городские веча; это раздолье русской жизни, которое сохранилось в песнях, – куда все это делось? Как могло это уничтожиться, не принесши плода? Как могло оно уступить насилию чужого элемента? Как возможен был Петр[42], разрушитель русского и вводитель немецкого? Если же разрушение началось прежде Петра, то как могло Московское княжество, соединивши Россию, задавить ее? Отчего соединение различных частей в одно целое произошло не другим образом? Отчего при этом случае должно было торжествовать иностранное, а не русское начало?
Один факт в нашей истории объясняет нам причину такого несчастного переворота: этот факт есть Стоглавый собор[43]. Как скоро ересь[44] явилась в церкви, так раздор духа должен был отразиться и в жизни. Явились партии, более или менее уклоняющиеся от истины. Партия нововводительная одолела партию старины именно потому, что старина разорвана была разномыслием. Оттуда, при разрушении связи духовной, внутренней, явилась необходимость связи вещественной, формальной, оттуда местничество, опричнина, рабство и т. п. Оттуда искажение книг по заблуждению и невежеству и исправление их по частному разумению и произвольной критике. Оттуда перед Петром правительство в разномыслии с большинством народа, отвергаемого под названием раскольников. Оттого Петр, как начальник партии в государстве, образует общество в обществе и все, что за тем следует.
Какой же результат всего сказанного? Желать ли нам возвратить прошедшее России и можно ли возвратить его? Если правда, что самая особенность русского быта заключалась в его живом исхождении из чистого христианства и что форма этого быта упала вместе с ослаблением духа, то теперь эта мертвая форма не имела бы решительно никакой важности. Возвращать ее насильственно было бы смешно, когда бы не было вредно. Но истреблять оставшиеся формы может только тот, кто не верит, что когда-нибудь Россия возвратится к тому живительному духу, которым дышит ее церковь.
Желать теперь остается нам только одного: чтобы какой-нибудь француз понял оригинальность учения христианского, как оно заключается в нашей церкви, и написал об этом статью в журнале; чтобы немец, поверивши ему, изучил нашу церковь поглубже и стал бы доказывать на лекциях, что в ней совсем неожиданно открывается именно то, чего теперь требует просвещение Европы. Тогда, без сомнения, мы поверили бы французу и немцу и сами узнали бы то, что имеем.
§ 3. Записка о направлении и мето́дах первоначального образования народа в России[45]
Грамотность и вообще первоначальное обучение народа может быть полезно и вредно, смотря по характеру самого обучения и тем обстоятельствам, в которых находится обучаемый класс.
Полезная сторона образованности очевидна и всеми признана. Обыкновенно думают, что она исправляет и развивает понятия о религии и нравственности, облегчает и расширяет частную деятельность, смягчает нравы, сближает классы, открывает дорогу дарованиям необыкновенным, часто затерянным и зарытым в невежестве, дает возможность к познанию законов, помогает уничтожению злоупотреблений судопроизводства, приготовляет развитие общей государственной справедливости, расширяет потребности жизни, ускоряет обращение капиталов и пр. и пр.
Но что если понятия, получаемые народом посредством грамотности, будут неистинные или вредные? Если вера вместо своего утверждения и развития встретит только запутанность и колебание? Если нравственность классов высших хуже народной, и, следовательно, большее сближение с ними ослабит нравы и привычки добрые, вместо того чтобы просветить и просветлить их? Если, выходя из прежнего круга понятий, простолюдин не находит другого круга сомкнутого, полного и удовлетворительного, но встречает смещение познаний, без опоры для ума, без укрепления для души? Что если прежнее состояние так называемого невежества было только состоянием безграмотности? Если, может быть, народ уже прежде имел и хранил в изустных и обычных преданиях своих все корни понятий, необходимых для правильного и здорового развития духа? Если его ошибки против нравственности были не столько следствием ложных мнений, сколько следствием человеческой слабости, сознающей, впрочем, свою беззаконность, – слабости, которая обыкновенно только увеличивается посредством грамотности? Если большее познание законов не увеличит чувства законности? Если, основываясь на худшей нравственности, оно произведет одно желание – подыскиваться под буквальность форм и пользоваться познанием закона только для безопаснейшего уклонения от него? Если словесность государства или ее часть, доступная народу, представит ему пищу для ума бесполезную, не представляя необходимой, и выведет его любопытство из сферы близкого и нравственного в сферу чужого, смешанного, ненужного и если не прямо безнравственного, то уничтожающего нравственность своею холодностью к ней, своею беззаботностью о существенном, магнетически сообщающуюся уму людей простодушных, доверчивых, всегда склонных к подражанию, всегда готовых верить первому говорящему и особенно говорящему книгою, всегда близких к самосомнению, всегда недовольных всяким стеснением, недовольных советами благоразумия, всегда склонных принимать уроки прошедшего за неповторимые и надеяться всего от будущего, которое, по их мнению, есть только отдаленное исполнение их собственных желаний?
Само собою разумеется, что последствия такого порядка вещей могут быть гибельны. Видимое смягчение нравов не заменит разврата нравственности, улучшения внешние не заменят упадка внутреннего, наслаждения чувственности – страданий душевных, неизбежных с развратом, с утратою личного достоинства и взаимной доверенности, с холодностью к ближнему, с расчетливостью вместо совести, с своекорыстием, с обманом, с корыстолюбием, с брожением развязанных страстей, с преследованием невозможной мечты, беспрестанно изменяющей форму и в сущности своей сводящейся всегда на одно чувственное удовольствие.
Как должен поступать в этом случае человек благонамеренный? Чего должен он желать, чему содействовать?
Труден выбор между невежеством и развратом. Впрочем, если бы даже и возможно было частному убеждению решиться на выбор одного из этих двух зол, то, во всяком случае, исполнение его мысли было бы невозможно. Избрав невежество, мы забываем, что оно не может оставаться в одинаковой степени, но непременно влечет за собою собственное свое возрастание и при некотором усилении достигает того же разврата, которого мы хотели избегнуть.