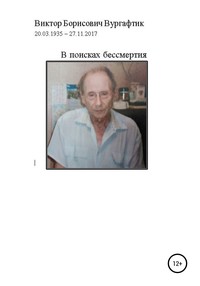
В поисках бессмертия
Да, не будь этого напряжения – старания взять на себя ответственность, не будь греха, не было бы ни боли, ни раздражения, ни страха. Под этими масками мою душу терзает напряжение, почти постоянно искажающее её, и оттого они так помогают друг другу, в особенности боль и ужас. Под разными личинами мою душу терзает грех. И для меня хорошо не поддаваться соблазну на гнев, боль, ужас б̕ольшим усилием, только усиливающим гнев, боль и ужас. Для меня хорошо снимать усилие – мягко делать то, чего хотят от меня, не добавляя от себя лишнего, расслабляться в безответственности и надежде, испытав боль или в виду пугающего события,– и тогда не терзание будет чувствовать моя душа, а чистую радость оттого, что она соединяется с Богом.
Кто я ?
Киев, 9-12 августа 1972
Несколько дней назад я увидел себя. Ведь обычно я себя не вижу, а только мыслю, и мне кажется, будто я – это мысль обо мне. Но тогда я себя увидел и увидел, что я – сын Божий.
А вчера я снова увидел себя. Я увидел себя в аду, увидел, что я – исчадие ада.
Кто же я? Сын Божий, спустившийся в ад, чтобы спасти грешников, или низвергнутый туда Люцифер? Где я обрету себя в конце земной жизни, когда невидение станет окончательным видением? Но, может быть, есть два я или две вечности?
Мне было плохо, и Бог показал меня себя, и я увидел, что я на Небе, и возрадовался. Я радовался оттого, что мне плохо. И в другой раз мне было плохо, но потому, что я плохо поступал и был зол. И снова Бог показал мне себя. Но я не пожелал увидеть себя на Небе и увидел в аду. Или я сразу увидел себя в аду и уже не мог пожелать увидеть себя на Небе? Но я подумал тогда, что если бы я пожелал быть на Небе, Бог взял бы меня к Себе, как в первый раз.
Может быть, в час смерти я обрету себя там, где пожелаю, но это желание моё предопределено? Как же предопределено моё желание, какова в конечном счёте моя сущность – добрая ли злая ?
Все мои мысли – о себе, и я принимаю их за себя самого. Поэтому ответственность за себя есть для меня ответственность за свои мысли – за то, чтобы они не прекращались. Её навязал мне дьявол, и я не мог освободиться от навязчивых размышлений, тем более неотступных, чем более я уставал. От этой ответственности, от себя самого, меня освободил Христос. Это не значит, что я о себе не размышляю, – я только это и делаю; вот и теперь я думаю о том, кто я, но так как для меня я – лишь мысль обо мне, я никогда не приду к выводу, что – сын Божий или что я – исчадие адское, я могу лишь вернуться к тому, что я – мысль обо мне. Освобождение меня Христом означает, что когда моё размышление легко, я в отдельные моменты совсем освобождаюсь от него, освобождаюсь в живом ощущении своей свободы и надежды на Бога, Который за меня отвечает. В эти моменты я себя уже не только не вижу, но и не мыслю.
Из этого абсолютного ничто – ничто, в котором совершенно ничего нет, – Бог творит что – опять-таки меня, но не прежнего, не мысль обо мне, а нового – меня действительного, о котором нельзя даже сказать, что я вижу его – скорее я его имею, моё видение и есть я. Кто же я действительный? В одних случаях я вижу, что это сын Божий, а в других – что исчадие адское.
И я подумал, что я – и то и другое. Вот что я хочу этим сказать. Меня того, за кого я себя обычно принимаю, в действительности нет, это только мысль обо мне, исчезающая в актах моей свободы. А я действительный существую не иначе, как во всех людях, одни из которых – сыны Божии, наследующие Царство, уготованные им от создания мира, а другие – исчадия ада, идущие в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его. Я не говорю, что я – собрание всех людей. Я есть каждый человек в отдельности, я – тот, с которым сейчас общаюсь; я есть ты.
Для моей мысли это безумие, потому что для её возможен лишь один ответ: я – это мысль обо мне, я – это мои мысли. Но в тот миг, когда их нет и Бог из ничто творит меня истинного, я вижу всем моим существом, что это так, и видение моё совпадает со мною, то есть с тобой. И не дьявол возложил на меня ответственность за себя, а Бог, дьявол лишь извратил её, подменив меня моей мыслью, – тогда навязал мне её. Христос освободил меня от мнимой, извращённой ответственности, и тогда в невыносимости моей пустоты я постиг действительную – ответственность за себя, которая есть ответственность за всех, за тебя.
Я кажусь себе каждой целью, которую я ставлю перед собой, – ведь без цели у меня не будет и никаких других мыслей, разве что разрозненные, случайно приходящие в голову / то есть уже не мысли/.
Но моя ответственность за тебя – это ви׳дение себя в тебе, творимое Богом на пустом месте и потому несовместимое со мною , каким я себе представляюсь. Следовательно, ответственность за тебя несовместима ни с какой моей целью. Она не имеет ничего общего с заботами о тебе – о твоём здоровье, настроении, даже спасенье, – все эти заботы имеют в виду поставленную мною цель, то есть не тебя, а только меня /кажущегося/. Как же понимать мою ответственность за тебя?
По-моему, она реализуется в сопереживании – в переживании мною твоей радости или твоего горя. Я не говорю о состоянии святости, и потому, проникшись твоим переживанием, я беру на себя твой грех, твою вину. Но это и значит, что я отвечаю за тебя. Забыв себя обычного и переживая то же, что и ты, я реально вижу себя тобою.
Именно в забвении себя как мысли, цели состоит отличие сопереживания от заражения грехом. Это отличие может быть сказано и синтетическим односторонним тожеством Я.С. Друскина: любовь есть любовь, тожественная сопереживанию; но само сопереживание не тожественно любви. Само сопереживание есть как раз заражение грехом и относится к сопереживанию, которому тожественна любовь, так же, как мысль о себе ко мне действительному или ответственность за себя, навязанная мне дьяволом, к ответственности за себя, возложенной на меня Богом. Таково же и отношение общества к Царству Божию. Преуспевая в самом сопереживании, я начинаю себя видеть и вижу себя в геенне огненной. Преуспевая в сопереживании, которому тожественна любовь, я тоже начинаю себя видеть, но уже в Царстве Божием. Где же я в действительности, где обрету себя в конце земной жизни? Как будто в Царстве Божием – ведь только в сопереживании, которому тожественна любовь, я не мыслю о себе и вижу себя тобою, в самом же сопереживании я лишь переживаю то же, что ты, проникаюсь твоей злобой, но тем сильнее отличаю себя от тебя – противопоставляю свою цель твоей цели. Но если я сын Царствия, почему реально вижу себя и в геенне огненной? Я вернулся к тому, с чего начал. Но в мысли и нет на это ответа: начиная мыслить, я уже предполагаю, что я – мысль, и, следовательно, не выясню о себе ничего другого.
Итак, кто я? Я есть ты. Если ты сын Царствия, я и я сын Царствия, если ты исчадие геенны, и я исчадие геенны. Но я есть ты означает, что сопереживанию моему тожественна любовь. А тогда мы оба сыны Царствия.
Три соблазна
Васильевский остров, ноябрь 1972
У меня было два соблазна: хлеб /всегда иметь достаточно пищи и одежды/ и мир /занимать какое-то место в обществе/. А сегодня прибавился третий: оставить мою отшельническую жизнь, в которой я слабо привязан к обществу, и броситься в мир, чтобы Бог в конце концов разрушил мою мирскую опору и дал мне творить благо. Ведь и обо мне молил Христос Отца: «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира. Освяти их истиною Твоею; слово Твоё есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и Я послал их в мир; и за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены истиною» /Иоан.17:15-19/ . Если я сын Божий, Он Ангелам Своим заповедает обо мне, и на руках понесут меня, да не преткнусь о камень ногою моею. Мне страшно бросаться вниз – я знаю, давно знаю, как страшно в миру. Но теперь я беспечален лишь тогда, когда совсем не причастен обществу, когда же хоть немного прикасаюсь к нему, уступаю его соблазнам и мучаюсь моей мерзостью. Может быть, если бы я совсем удалился от него, они постепенно умерли бы для меня; но я не удаляюсь и не знаю, возможно ли это. Но я знаю, что можно жить в самой его гуще и быть мёртвым для него. Но не должен ли я для этого сперва положиться на него всею моей душой, чтобы тогда, когда я никак не смогу без этой опоры, Бог лишил меня её? Я, впрочем, не могу этого планировать и просто должен отдаться моим соблазнам.
Итак, их теперь три, но все они – одно: уйти с головою в общество. Не так ли старец Зосима благословлял Алёшу Карамазова на великое послушание в миру? Но некоторое время назад я уже решил принять это, и во сне мне был показан весь сопряжённый с этим ужас. И недавно я было поступил на службу, но не выдержал и оставил её.
Я знаю, что, если я останусь вне общества, Бог накормит и оденет меня и защитит. Но у меня остаётся соблазн в том, чтобы я сам себя накормил, одел и защитил. А теперь ещё возник соблазн поддаться этим соблазнам, чтобы умереть для соблазнов. Я, конечно, понимаю, что для этого я должен буду забыть, что это соблазны, и считать их радостями бытия. Но тут возникает несколько вопросов:
1) смогу ли я теперь это забыть – ведь я уже не тот, что прежде?
2) если забуду, разве буду я сохранён от зла – разве не преткнусь о камень ногою своею?
3) если же преткнусь, то не приведёт ли этот путь вместо спасения к погибели?
И вообще, не лучше ли для меня всецело покориться Богу, не спрашивая, что будет, если я встречу мой смертный час падким на соблазны затворником. Ведь я знаю, что существо моё слабое и покорное, а не властное и бунтарское, все же мои попытки найти здесь безболезненную работу Он пока пресекал. Он бережёт меня от мира – сохранит и в последний мой час. Разве обязательно, чтобы все мои неумершие соблазны тогда восстали и погубили меня? Разве нет у Бога иных средств избавить меня от них, кроме мучительного или опасного для моей души послушания в миру? Я знаю, что самые мои живые писания я пишу после того, как мне бывает плохо. Но могу ли я приписывать Богу желание для этого отправить меня в мир? Ведь Он не хочет этого, иначе давно бы уже позволил мне, даже заставил бы меня поступить на службу. Впрочем, Он и позволил поступить на ту, мучительную, с которой я ушёл…
Но, я думаю, напрасно моё стремление для ухода в мир заручиться поддержкой Бога. Это дело лишь моих соблазнов и моей воли. Впрочем, над нею стоит Провидение, которое всё и определит,– Его воля. А мне – чего мне настаивать на моём соединении с обществом? Для совершенствования моей души – освобождения её от мирских соблазнов? Но это было бы лицемерием: «да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» /Мф.6:27/. Здесь я сам ничего не могу, и, кроме того, разве не лицемерие оправдывать зло грядущим благом, к которому оно будто бы приведёт? Если бы я пошёл в мир, то лишь из-за его соблазнов – чтобы получить хлеб и защиту, обеспеченные здесь, на земле. Но это уже было бы легкомыслием – ведь мне дважды было показано, что в миру меня ждут не радости, а муки. Это были бы муки, обеспеченные здесь, на земле, и мне незачем меня на них необеспеченные на земле радости.
У меня нет никаких разумных оснований для соединения с миром. Это вообще не дело моего разума, и я оставляю его.
Моя бесконечная заинтересованность
Васильевский остров, февраль 1973 года
Некогда я не видел себя. Я был тогда невинен, но «тогда» – неверное слово, потому что время для меня не текло.
И вот я увидел себя, и потекло время. Увидев себя, я изменился – стал грешником. Но я видел себя таким, каким был прежде, – невинным. Мое видение было искаженным, я жил, как говорит Я. С. Друскин, в непосредственности греха.
Затем через посредство Я. С. Друскина я увидел, что я грешник. Но это видение тоже изменило меня, и я став праведником – был оправдан. Я вновь видел себя не нынешним, а прежним, это было раскаяние.
И вдруг я увидел себя сейчас. Мои и все человеческие дела предстали передо мной ничтожными и не имеющими значения. Важен был лишь неземной благостный Свет, Который на меня изливался. Но «был» – неверное слово, потому что не было времени. Это истинное видение в третий раз изменило меня. Вскоре оно пришло вторично.
После того раскаяние оставило меня. Может быть, со мной свершилось по слову Христа: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (И., 9, 39). Я вновь стал грешником, который не видит своего греха. Я думал, что это и есть мое «видение невидения», о котором писал Я. С. Друскин. Я говорю здесь не о незнании греха – я знаю о нем, – а именно о невидении, об отсутствии экзистенциального переживания его – раскаяния. Оно бывает лишь как боязнь наказания – от Бога или человека. Но свое невидение я не просто знаю, а именно вижу, потому что помню об истинном видении.
Применимы ли ко мне слова Христа: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха; но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас» (И., 9, 41)? Я не вижу и говорю, что не вижу. Но ведь я вижу, что не вижу, и говорю это. В конечном счете я все-таки вижу и, следовательно, грешник. Может быть, это и означают слова «праведный грешник»?
Но иногда ко мне приходит истинное видение другого рода, и я в нем не таков, как в том истинном видении. Возможно, это, как считают некоторые, воспоминание о том, чего не было в этой жизни (или, добавлю, предвидение того, чего в ней не будет). Я вижу в нем прекрасное и люблю. В том видении я видел Небесный свет, а все земное не имело значения. В этом я вижу прекрасное, а остального нет, потому что все прекрасно. Но нет той насыщенности, которая несколько раз была в прошлом. Это видение бывает, когда я ухожу от страшного или от ответственности перед собой. Я знаю, что Бог освободил меня от ответственности, а ответственность, превосходящую некоторый предел, даже запретил. Он освободил меня от всякого усилия над собой и запретил усилие, большее некоторого предела. Превосходя его, я уже не могу вернуться к свободе и пожинаю страдание; а, стараясь побороть его, прилагаю еще большее усилие. Бодрствовать для меня значит следить за тем, чтобы не превзойти этого предела. Но как часто я засыпаю!
В этом состоит моя бесконечная заинтересованность. Впрочем, самая бесконечная заинтересованность моя – это быть бесконечно близко к видению и любви со стороны страдания, чтобы, пройдя через нее, оказаться в усилии снова бесконечно близко к ней. В этом переходе я имею и осуществляю власть.
О мире
Васильевский остров, март 1973 года
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош; и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день второй… И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день четвертый» (Бытие, 1, 1-8, 14-19).
Подобно ученикам, слушавшим Христа, я хочу сказать: кто может читать это? Кто может мыслить небо твердью, отделяющей воду от воды, свет независимо от светил, последние – находящимися на небесной тверди? Но я верю, что воистину мир именно таков, и потому спрашиваю: как же возникли те представления о нем, которые я понимаю и считаю правильными?
Они возникли как результат человеческого опыта, как факты, установленные наукой. То и другое – деятельность общества. И я говорю: извращенные представления о мире исходят от общества, и я разделяю их, поскольку ему принадлежу. Эти представления могут существовать лишь до тех пор, пока существует общество; иными словами, мир, который мы себе представляем, есть следствие мира, понимаемого как общественное соединение людей.
Таким образом, я прихожу к выводу, что мир, в котором мы, как мы думаем, живем, следует понимать не как физическую Вселенную, а как общество, мир людей. И вопрос о конце мира есть вопрос об окончании общества. «Время уже коротко», «проходит образ мира сего», писал апостол Павел коринфянам (1 Кор., 7, 29, 31); и действительно, и иудейский, и языческий мир вскоре перестали существовать.
В Мф., 24, Мк., 21, Лк., 21 Иисус предсказывает сначала конец иудейского мира, а затем конец всеобщего: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою. И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною; и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их. (Мф., 24, 29-31). Оказавшись разобщенными и забыв общественную науку, люди увидят, как меркнут солнце и луна, и звезды спадают с неба, и земля погружается в совершенно непроглядный мрак, потому что с гибелью общества и всех общественных навыков всякое искусственное освещение окажется невозможным. И тогда на черном небе явится светлое знамение Сына Человеческого и Он Сам, грядущий на облаках. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло… И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет» (Апок., 21, 1-4, 2325).
Общественный взгляд на Вселенную, точка зрения мирской науки тождественны для современных людей взгляду вообще, иного они не могут себе проставить. Между тем он есть лишь точка зрения общества, средство в его борьбе за самосохранение. Общество – некое существо, вгрызающееся в мироздание, расширяющее в нем сеть своих нор и нуждающееся для этого в информации о нем. Но эта информация есть не истина, а именно лишь средство для борьбы с ним. Поэтому научные положения никогда не относятся к мирозданию в целом; они касаются лишь его частей – отвечают на вопрос: что будет, если рыть в этом направлении?
Принадлежа обществу, я на все смотрю его глазами, добром считаю то, что способствует его сохранению, злом – то, что препятствует ему; я ищу не своего блага, а блага общества. Если я противопоставляю себя ему, вступаю с ним в конфликт, последний привязывает меня к нему еще сильнее, и я, заботясь о себе, еще больше содействую его укреплению – то ли потому, что оно закаляется и совершенствуется в борьбе со мною и подобными мне, то ли потому, что я и такие, как я, отстаивая каждый свои интересы, тем самым наиболее эффективно работаем на общее благо, – примером могут служить мелкие собственники крестьяне. В сущности, общество, в отличие от Царства Небесного, едино именно благодаря таким конфликтам и противопоставлениям. И только если я оказываюсь никак не связанным с ним – ни заботами об общем благе, ни противопоставлением ему своего собственного – глаза мои очищаются для того, чтобы видеть мир, сотворенный Богом; только если я действительно выхожу из мира сего, я способен увидеть его прохождение.
Когда Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, они утратили истинное добро, в котором жили до этого. Чьи же добро и зло они познали? Добро и Зло общества, которое они составили в это мгновение. Живя в добре, они не знали, что живут в добре. Но нельзя познать добро, не познав зла; чтобы у них открылись глаза, они должны были испытать то и другое, иначе говоря, оказаться в обществе. Но тогда истинное благо оказалось подмененным благом общества и может быть восхищено только через освобождение от него. «Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле ? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей.» (Лк., 12, 51-53).
Итак, мирские представления о мире неистинны, представляемый таким образом мир есть продукт общества и существует лишь в нем самом. Но разве общество не есть часть мира сего? Поэтому последний не отличается от общества, его возникновение и гибель – то же, что возникновение и гибель общества.
Но в этом рассуждении я пользовался мирской логикой и мирским языком. Каким же образом я могу быть уверен в том, что оно истинно? Понимаю ли я мир, сотворенный Богом, или что означает «проходит образ мира сего»? Нет, я ничего этого не понимаю…
Рассуждения о себе и космосе
Сентябрь 1973
1.Есть психическое и есть физическое. Параллельны ли они, как предположили в прошлом веке, действительно ли они не пересекаются?
Вот моё тело. К чему оно относится – к физическому или психическому? Я могу чувствовать его и внутренними чувствами и внешними, оно и непосредственно мне и не непосредственно.
Вот пища, которую я ем, одежда, которая на мне, карандаш, которым я пишу. Разве они в каком-то смысле не продолжения моего тела? Могу ли я безоговорочно отнести их к физическому?
Мне кажется, физический мир имеет нечто общее с психическим, т.е. что они не параллельны. Они переходят друг в друга там, где моё тело, моя пища, моя одежда, мои орудия. Я буду исходить также из единства как того, так и другого, называя психическое единство «я», а физическое – «космос». Таким образом, существует целое, которое я назову Миром, нечётко и условно разделяемое на космос и я.
2. Нечёткая граница между ними к тому же подвижна: я то отношу к себе и всё, чем владею, то отчуждаю от себя даже некоторые свои представления. Иногда я объемлю весь Мир, а иногда не имею ничего.
Расширение я есть деятельность воли, а сжатие – деятельность мысли. Чтобы присвоить себе дерево, я должен его захватить и охранять. Если же первоначально оно было дано мне непосредственно, т.е. я не выделял его из себя, то мысль о нём сразу же противополагает его мне; подумав о нём, я теряю его. Но сокращение я рождает во мне представление дерева, теперь мне непосредственно дано не дерево, а его представление. Если же я подумаю об этом последнем, у меня и его не станет, а вместо него возникнет представление представления.
Таким образом, волевое усилие исключает мысль, а мысль исключает волевое усилие. Их совмещение в разумной волевой деятельности только кажущееся: в действительности они не совмещаются в ней, а чередуются.
Подумав о чём-то, я утрачиваю его как непосредственно моё и теперь стремлюсь получить его обратно. Но я не могу сделать этого иначе, чем присвоив его, завладев им, – иначе, чем посредством волевого усилия. Теперь я обдумываю, т.е. отчуждаю, другое, завладеваю им и т.д. Строительство Вавилонской башни состоит в таком мыслительном отчуждении и волевом захвате всего.
3. В этом существо научно-технического прогресса. Я стремлюсь утратить всё как моё исконное, чтобы всё завоевать. Я хочу обладать Миром не потому, что он мне от начала дан, а благодаря своей воле.
Но нечто уже утраченное мною может быть мне возвращено вдохновением. При этом моя воля бездействует, я получаю дерево, человека, море совершенно независимо от неё. Моя мысль может затем вновь лишить меня этого и чередоваться в дальнейшем с вдохновением. И всякий раз она оставляет во мне представление, которое я запечатлеваю посредством красок, звуков или слов. В результате я создаю произведение искусства.
Но вот моя мысль исторгает из меня нечто, и я не стремлюсь вернуть его себе – завладеть им посредством воли. Я не экспериментирую над ним, не подчиняю его себе с помощью техники, я хочу только запечатлеть словами то представление, которое моя мысль дала мне взамен. Тогда я философ. Но занятия философией не опустошают меня, так как вместо отчуждаемых вещей я получаю их представления.
4. Какая разница между волей и вдохновением? Оба дают мне некоторую опосредствованную вещь, т.е. принадлежащую не мне, а космосу, и оба стирают во мне её представление. Однако вдохновение даёт мне её всю целиком, а воля – лишь её внешнюю, обращённую ко мне сторону, которую вместе с Кантом можно назвать явлением – в противоположность вещи в себе. Я хочу сказать, что, расширяя меня, воля оставляет внутреннюю сторону вещи за пределами я, в космосе, подобно тому как мысль оставляет мне внешнюю сторону вещи, представление, а внутреннюю исторгает вовне. Если я присвоил себе дерево или синтезировал новый лекарственный препарат, я оказался обладателем лишь полезной для меня стороны того и другого, но он имеет, конечно, и другую, скрытую сторону, которая ускользнула от моей власти. В дальнейшем я могу направить мои усилия на неё, но в лучшем случае снова завладеваю лишь некоторым явлением – вещь в себе останется вне меня.