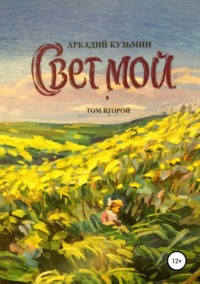
Свет мой. Том 2
И так отчаянно кричали своим матерям глаза всех угоняемых мальчишек.
А как спасти ребят? До околицы и дальше женщины колонну провожали. Словно замагниченная, Анна, вспахивая снег, вполощупь продвигалась сбоку, слева, – за идущим сыном поспевала; она накрик тоже кричала, но не слышала себя, не слышала, – криком исходила оттого, что нисколько не могла уже помочь ему, себе. Она уже не могла идти самостоятельно, без поддержи, и ее вели под руки Дуня и Наташа, Полюшка, сами все зареванные также, как белуги. Как и в памятно звенящее пустотой июльское воскресенье в 1941-м, когда Анна, убиваясь, провожала на фронт своего Василия, бывалого отца семейства и обстрелянного уже солдата, кто отбухал смолоду семь лет в сражениях первой мировой и гражданской войн, был поранен. Но каково же ей было отдать совсем незащищенно-хрупкого, незакаленного, каким он еще был, шестнадцатилетнего сыночка прямо в лапы озверелой, кровожадной вражины. Вот она наказана! Не смириться с этим ни за что.
Он-то, горемычный, побледнелый, рядом с скисшим Толиком в колонне шел; все крепился он, успокаивал ее с покорной виноватостью. Да внезапно, пересиливши себя, прокричал – не только ей, одной:
– Ну, кончайте выть, кончайте, мам, я говорю! Слушайте… Домой ступайте и готовьтесь к завтрашнему: говорят, и вас погонят послезавтра!.. Себя пожалейте…
Смысл сказанного наконец проник в сознание Анны и ужаснул пронзительной реальностью. В сердце вновь захолонуло невозможно как. Неужели верно – нужно всем им собираться все-таки?! Было-то нешуточное такое: Анна все же разумела мало-мальски, что в ее оставшейся еще немаленькой семье было только двое, двое взрослых, на кого еще можно чуточку рассчитывать, – сама она и Наташа, не учившаяся ныне школьница. Других – мужчин – уже не было.
Днем то подтвердилось точно. В обход известил всех староста Вьюнок. Извольте, уважаемые, знать: назавтра выселение назначено! В приказном порядке…
И вот заново на полный-полный оборот запустили Анна, Дуня, дети все последние силенки: собирали одежду, белье, шили, кроили, выкраивали и штопали, подзаклеивали калоши, подшивали валенки и мололи прибереженное на самый черный день зерно. И всю-то жаркую, душную ноченьку в подземелье опять Анна пекла пресные лепешки из полученной муки (немцы, расщедрившись ни с того ни с сего, выдали им двадцать с лишним килограммов трофейной, т. е. советской), и из грубо смолотой – одного пропуска – ржи (для того же, чтобы мельче смолоть на чугунке, помол этот следовало б пропустить вторично, снова подсыпая его по горсткам в лунку, для чего уж просто не хватало сил и времени) и затем увязывала по мешочкам травяные (с большой примесью кашки, лебеды, крапивы и еще чего-то) сухари и картофельную шелуху, очистки, насушенные ею впрок за многие покатившиеся под откос дни, насушенные не по чьей-нибудь благой подсказке, а благодаря лишь безошибочному женскому чутью и исходя из практического, житейского опыта.
XIV
Согнанные нервно-зябнуще толклись, кучась, около комендатуры – тесовой трехоконной и подслеповатой чуть избы Смородихи с живучими, алевшими на подоконниках в горшочках и доныне, прелестными трубчатыми геранями, которые словно зазывали из-за окон мимо проходящих, ловя взгляды: «Ну, пожалуйста, входите в дом; входите, просим милости!» И, должно быть, все ретивые немецкие коменданты, какие со дня оккупации менялись здесь скоротечно из-за наступательно-отступательного перемещения войск, проявляли к цветам консервативно-сентиментальную на войне слабость: становились на жилье в Ромашине исключительно лишь к одной Смородихе. Вполне возможно, потому еще, что в избе этой было чисто, а детей не было – всего-навсего две тихо, аккуратно, будто бестелесно жившие сестры. Поэтому немцы их и почти не трогали и не терзали так, как всех жителей. Однако же сейчас, покончив с такою привилегией для них, их тоже выпихнули вон невежливо, – принудили выселяться; неприкаянно и они среди толпы околачивались, с жалостью взирали, вероятно, на свои гераньки, с коими прощались по-ужасному.
Конвульсивно в толпе что-то сдвинулось, сместилось; крайние напористо полезли с санками поближе к серединке, куда со списками приспел чернявый деловой староста Вьюнок, обложенный немцами со сторон и хрипло каркавший.
– Дайте, дайте нам пройти вперед! – Лидка, Зинка, Любка, Дашка Шутовы со своими чадами, с крепкой еще матушкой прорывались скопом, затолкав Анну с Верой. – Что, боитесь сами подойти поближе?.. Так пустите нас!.. Не застите…
– Там не сахар, милые, дают, не гостинчик, – отпустила язвительно Поля. – Что толкаться, лезть позря? Чай, не лошади… – Она точно недолюбливала Шутовых с их взвинченной претензией на нечто, или амбицией, не питала к ним приязнь, расположение и никого из них не выделяла.
Это многочисленное и на редкость какое-то одноликое вместе с тем семейство – безмужняя Софья, мать, да ее трое взрослых, тоже незамужних дочек с детишками и двое сыновей – не было исконно ромашинским. Около трех лет назад оно въехало откуда-то в Ромашино, сняв полизбы, на жительство, а не колхозничать (сестры на работу во Ржев бегали до самой оккупации), и с самого начала всем укладом своей жизни, нездешними привычками, претендующими вроде бы на независимость поступков и суждений и, главное, такой некрестьянской и чуждой чертой какого-то животного всеядства вызывало у окружающих людей если не чувство иронического осуждения или недоумения, то, по меньшей мере, удивленное любопытство. Всех коробили необыкновенная легкость, с какой младшие сестры фривольно-легкомысленно вели себя в общении с гитлеровцами, с которыми крутили напоказ любовь, стараясь в ней преуспеть побольше, и это даже после того как летом сорок второго они похоронили десятилетнего Витю и восемнадцатилетнюю Симу.
– Встанем тут, где нам хочется и все видно; нам ведь не заказано, где встать, – место общее. – Кривила губы Любка. Они, Шутовы, в центр выперлись. Запаясничали по-былому: – А то ничего не видно и не то на задворках, на сугробах… Красота!
– Это не театр ведь, – урезонивала Поля. – Надо ж понимание иметь.
– Не у тебя спросясь… Мы-то знаем… Грамотны…
Стали выкликать и тасовать народ. Заработала немецкая машина. Мотор запустили.
Дошла очередь, кликнули и Аннину фамилию, значившуюся где-то в середине списка, подготовленного кем-то, каким-то злыднем; Анна встрепенулась с горечью («было видно: нечего надеяться – здесь не позабыли нас»), позвала с собой своих детей и сестру, и они с обыкновенностью теперешней добавились к составляемой колонне, только с небольшой заминкой – на мгновение отвлекся и отстал Антон, и поэтому пришлось поджидать его, тогда как почему-то все торопили Кашиных, словно все спешили на пожар. Дело ж объяснялось тем, что Антон в темной людской гуще деревенских увидал, загоревшись, однолетку Гальку Рощину, с которой некогда учился в одних школьных классах, увидал ее здесь вместе с матерью, и, сорвавшись, бочком подкатился к ней и незаметно всунул в руку ей лепешку, отчего она по-взрослому смутилась и сказала ему что-то, будто оправдательное что.
Анна не стала журить ласково Антона, хоть и хотела пожурить за то, что отвлекался он, но не то, чтобы она так побоялась чувствами расслабиться и расчувствоваться больше, – это могло, могло быть у ней. А видения иные, заслоняя маловажное, путали все представления о действительности. Очень ей не по себе вдруг стало, как попал под глаза Михаил Михайлович, бывший предпоследний колхозный председатель, жалуемый прежде даже дружбой ее мужа Василия, – он тоже вроде хороводился в глупой старостиной свите, помогал перелопачивать и отправлять людей; он мельканул перед нею, такой смирненький, с приниженным взглядом, говорящим каждому потайно, почти умоляюще, чтобы все поняли: «Пожалейте, нас заставили… все-таки семья…»
Как меняется все в образцовых и принципиальных прежде деятелях!.. И откуда катит зло, – запросто накатывается? Из каких выходит – вылезает тайников?
– Jeder Mad hat seine Plag – каждый день имеет свои бедствия, – сказал, а переводчик перевел, когда жителей построили, подравняли вышагнувший недоросший комендант с маленьким вальтером на ремне, да, офицер не ослепительного вида, – он лишь тускловато отливал под непрозрачным небом, точно та пустая консервная банка, что валялась в снегу под его ногами, и которую он брезгливо пнул. Шел уже 1943-й год, – война непредвиденно затянулась, и он, верно, нимало поумневший, кадровый офицер, уже ни в какой штурмовой успех на Востоке – успех для себя и для Германии – не верил; но поскольку еще обходила круг совершавшаяся история, постольку и он еще механически – безропотно офицерствовал в прифронтовой полосе и даже отдавал всякие будничные комендантские распоряжения. Он сказал, что немецкое командование заботится о населении – и так как приблизился фронт, всех переселяют, чтобы вывезти потом в Германию. И посоветовал побеги в пути не устраивать. За это полагается расстрел.
– Spaben, aber nicht uber die Maben (шутить можно, но не чрезмерно).
Все совсем затихли, приунывшие.
Тут-то быстро подошла к Анне крестная, тетя Нюша, постоянная благодетельница, и, вытащив из-за пазухи теплый шерстяной платок, повязала на голову семилетней Веры, поверх другого платка.
По команде стронулись, пошли. Заскрипел под ногами и санками сплошной, плотный, вяжущийся снег.
XV
– Ну, сердешные, айда, – изуверы подгоняют нас, норовят огреть прикладом; пожелаем себе возвращения скорейшего, счастливого: ведь без нашей Родины – какая жизнь для нас? Кому она нужна? К чему собственно жить? – взволнованно, в слезах залпом выговорила близстоявшим Поля, сноровисто впрягаясь в салазки. Она точно выразила свое отношение к происходящему и тем самым, давно взяв себя – по душевной, видать, потребности – столь ответственную общественную роль, приободрила, может, маловерных, слабых, сникших: «Бог даст, выкрутимся как-нибудь. Не горюйте. Свет, я думаю, еще не оскудел людьми добрыми, сердечными. Люди милостивы.» И размашисто пошла-потянула за собой салазки, как бы намеренно становясь в людском потоке впереди семейства Кашиных, возглавляя эту группу, или прикрывая ее от чего-то непредвиденного, на правах сильной и отчаянно-смелой личности, уже побывавшей дважды под расстрелом у немецкой солдатни.
Полей неспроста восхищались Анна, ее дети. Отнюдь! В эти самые сумрачные, крутые дни они признательно привязались к ней и опирались на ее каждодневную практическую помощь и такие верные советы. Да, ей словно передалось с избытком от сводного брата Василия Кашина бескорыстие и бесстрашность в своих поступках, идущих от сердца, а главное, уверенность в нужности другим того, что она делала стихийно, само собой. С неодолимой жаждой жизни, честной, справедливой и возвышенной. В ней, необыкновенной женщине, бывшей единоличнице, лучшие, можно сказать, героические качества раскрылись теперь, в трагическое время, с особенной, ей присущей силой. Видно было, что она и не думала ни о чем таком; она все делала так, как считала нужным делать или же, верней, необходимым сделать неотложно, и это у нее получалось. Она как будто жила отныне неизмеримо более важным смыслом морально. Это было ее насущной потребностью. И хотя сварливо-брюзжащая мать ее, Степанида Фоминична, и сын Толик, безотцовщина, неслух, требовали от нее для себя всех благ, она будто на крыльях летала всюду…
XVI
«Господи, а я-то что и где?! Что же так иду?!. Где мои ребята все?» – окатил Анну горяченный испуг; ей почему-то показалось, что прошла уж вечность целая с тех пор, как ею снова завладели мысли отвлеченные, негожие, и она в пути могла столь нелепо, непростительно – только из-за этого растерять своих. Но дети по-прежнему было около нее, все, кроме, разумеется, Валеры. Анна помнила, увидела опять. Ее глаза, обежавши круг, опять возвратились к Наташе, волокущей вместе с Антоном санки.
Втайне Анна возрадовалась, что она опять нашла дочь свою. Одна время Наташа, сдружилась особенно с этой двоюродной сестрой Ирой (постарше себя), начала погуливать, вследствие чего и начала даже пропускать уроки в льняном техникуме, скрытничать во всем и помаленьку, но заметно отчуждаться от родителей, семьи. Отец обстоятельно, без горячки, беседовал с ней; попытался от также убедить и Иру, дабы она тоже одумалась и не ждала момента, когда ее отчислят с курса, вслед за лишением стипендии, – она еще успеет нагуляться вволю… Теперь Анна с Наташей как-то очень кровно сблизились, вдвоем даже пели иногда напевные мелодии и тонко чувствовала одна другую, что благодатно отражалось на всей домашней атмосфере. Никто не был в стороне от этого.
Подшмыгивала носом Дуня, таща санки с сыном; но, кашляя, она непритворно улыбалась чему-то, раскрасневшаяся на морозе:
– Ой, послушайте: по-моему, я где-то уже простудилась. Заложило грудь.
– Типун тебе на язык, ты не говори, – встревожено сказала Анна, пересиливая ветра гул, но и вновь порадовалась ее плохо скрываемой радости, наступившей после ее замирения с Валерой. – Простужаться нам никак нельзя, нельзя сейчас – говорила так, словно это целиком зависело от их желания – только стоило захотеть…
– Давай, мам, садись на краешек – прокатим с ветерком под горку, – солидно предложил ей одиннадцатилетний бутус Саша, подталкивавший сзади санки палкой – для того, чтобы не нагибаться. – Ты малость отдохнешь так. Мы справимся, честное слово, – садись!
– Деточка моя, а я не хочу, я не хочу, еще не устала идти, – отнекивалась Анна, занятая новой вереницей мыслей под холодное гудение пурги.
А на душе у ней все теплело понемногу: да, вот уже сами дети, в чьей помощи не только делом, но и участливостью она нуждалась, нуждалась ничуть не меньше, чем они нуждались в ней, матери, – уже дети вместе с нею думали и прикидывали, как им лучше поступить, – здраво рассуждать их тоже научили обстоятельства неладные. Не улепетнешь куда-нибудь вскачь – галопом.
– Тогда ты подсядь, Верочка! – скомандовал уже Антон. Ему доходил четырнадцатый год. На нем была такая же, как и на матери, ее ноская старинная шуба, от которой он лишь махнул ножницами полы, укоротив ее для себя – по своему росточку. И выглядел он в ней вполне уверенно. Главное, шуба грела его, защищая от пробивного холода – до оврага подвезем. Там подъем – и ты соскочишь. Садись!
Верочка не стала ждать еще особого предложения – и, радостно просияв, с помощью Саши подсела на задок безостановочно катившихся санок. Обняла сидевшую впереди, лицом назад, укутанную в байковых одеялах четырехлетнюю сестричку Танечку, бело припорашиваемую надоедливым мелким снегом:
– Ну ты как, еще жива, мышонок? Дышишь? – начала с ней совершенно взрослый разговор, какой обычно ведут искушенные и оптимистично настроенные собеседники. – Поглядела б на себя – ты чистая Акулька, вот кто ты… Лишь блестят глазенки, как у мышки серенькой. До того закутанная.
И Танечка ей слабо отвечала в тон, вроде бы храбрясь:
– Живая я еще. Только чуть устали мои лучки, мои ножки. Ой! Я не могу… Болят.
– Что, замерзли, может? Ты пошевели-ка ими. Ну, попробуй.
– Плобовала, видишь… Шевелить-то некуда, и все. Ой! Ой!
– Потерпи маленько, Танечка, – успокаивала ее Вера, целовала. – Что поделаешь, моя родная. Вон и Славик тоже едет за тобой – он совсем маленький еще; тетя Дуня везет его на маленьких саночках – привязанным тоже. А за ними Кирилл на руках несет тетя Марья. Два-то годика ему. Не пойдешь сейчас самостоятельно. Это ж не катанье с горки, ты-то понимаешь?
– Понимаю. А мы на санках покатаемся? Потом… Ты обещала.
– Ну, конечно, покатаемся, попрыгаем, как все кончится и прогонят фашистов, мышонок мой!
– Ладно, тогда я потерплю маленько. Ой!
«Бедные ж вы птенчики мои, чем помочь вам? – Даже прошептала Анна; слышавшая этот детский щебет. У нее размеренный ход отлаживался, и она часть своего внимания отдавала и ходьбе, норовя не сбиться, не попасть в более рыхлый, свежий, неутоптанный и не осевший снег, пахший будто огурцами. – Танюшка привязана, как надоумила нас Поля (чтоб ее не выронить, не потерять в возможной сутолоке, гонке), и еще обложена несколькими узелками, – ей точно некуда подвинуть стынущие и немеющие ножки; узелки не скинешь на дорогу: тут и все наше добро семейное, убереженое с трудом – особо с ним и так не разбежишься… Немцы с вермахтским порядочком – что хочу, то и ворочу – все быстрехонько везде подчистили и подлизали; они прямо из-под рук тащили-вырывали, ничем не гнушаясь и не трогаясь ни в каких соображениях над тем, как же после вандализма этого могут еще жить-перебиваться русские. Как же могут, если они, мало этого, еще зачали и пытки, и убийства – в комплексе и порознь, и вообще как хочешь, смотря по их настроению? А настроение у них беспеременное – одно: проехать по всем нам от мала до велика колесами зверской, безрассудной войны и ни за что и ни про что втоптать нас, русских, вживе, в нашу ж собственную землю. А ведь их бы, нелюдей, ополоснуть в подобные мучения – ведь они подохли бы в однозимье начисто. И до веснушки-красы не дотянули бы. Кто ж, действительно, может вынести такое? Видно, только русские – мы. Но, должно быть, еще тяжелей теперь приходиться бойцам, всем тем, которые непосредственно воюют и дерутся там, на фронте, ради нас, если еще не убиты все, – нашим дорогим защитникам, фронтовикам. Им, конечно ж, тяжелее, что там, господи; им сначала помоги – тогда выдюжим и мы. Да и каково теперь, не представляю, всем паренькам зацапанным: Валере, Толе и другим… Малец сцапанный, в когтях, – кругом один… Он был к учению способен, с инженерной жилкой, и отец ему большое место в жизни прочил… Кем бы стал… Впрочем, все ребята у меня способные такие, нравственные; разве только меньший, Саша, выкрутасничал – сладу никакого не было с ним. При отце-то строгом…»
Так все незаметно лезло и накатывалось на ум Анны.
В перемещательном движении людской колонны все было однообразно. И погода не менялась оттого, что пробрызнул день. Небо не было голубым. А снег тем не менее точно светился весь изнутри нежнейшим голубовато-синим свечением, наполнявшим воздух, что создавало необычайную иллюзию пространства, его глубины и там, где ничего похожего вовсе не было. В холодной пелене беснующе-упругого пространства, калившего лица, безостановочно качались, двигаясь колонной, взгорбленные и взбеленные плечи, спины выселяемых; порой тупорылые немецкие автомашины, обдавая газом, и темные узкие фургоны оттесняли их в кювет, набитый сыпуче уплотнившимся снегом с характерным ровным блеском. Однако мало-помалу ходьба на расчищенном и накатанном большаке разогрела кровь; оттого, наверное, Анна капельку взбодрилась и – хоть слабо, все же обнадежилась той верой, что и это должно ими превозмочь. Полюшка права: многое уже хлебнули – и покамест выжили, не окачурились… Даже вроде отступилась от нее, – Анна вслушалась, – да, отступилась от нее заунывная, вихрившаяся и было досаждавшая ей, музыка метельная. Но, возможно, Анна и взбодрилась потому, что им предстояло вскорости, она подумала, пройти деревню Медведево, в которой она, вероятно, сможет получить, расспросив кого-нибудь, какую-нибудь весть о сыне, – она теперь думала о нем больше и первее, чем о муже своем. Может, они как раз следуют за ним – где-нибудь сойдутся-скрестятся их пути, надеялась она.
Ей уж рисовалось зримо то, как они в Медведево входили, под деревьевые своды, и как высыпали к ним из полузаколоченных из навстревоженные бабы, старики; набожно те крестились, ближе подходя, чтоб узнать:
– Откель вы, горемычные? Чьи ж вы будете?
– Мы – ромашинские.
– Из Ромашино?! Ей-ей! Значит, наша очередь теперь за вами: тоже заоблавят, заскребут и нас…
–Они всех повыгоняют. Приготовьтесь в этому заранее.
– Двумя днями раньше тоже гнали – дальних…
– А вчера не погоняли мальцев наших?
– Родненькие, видели мы, чай: провели мальчонков, мужичков. Это – ваши, стало быть?
– Слышишь, Полюшка?..
– Чувствую…
– Мужчинки, те будто б сторонились ребятишек – как бы они, недоросли, не были для них обузой.
– Верно, схоже. Мужички-то – сами себе отставные – больно берегут себя. А куда же их погнали, вы не знаете? Мы ведь матери ихние..
– Нет, простите, милые; не сказал никто, сердешные.
«Да, не зря я думаю, что он там, кругом один, без товарищей…» – почти вслух проговорила себе Анна.
И опять усилился в ее ушах вой ветряной. Он усилился вместе с напряженным гулом телеграфных проводов – они, выселенцы, только что миновали знакомо полосатый перекрещенный столб и шлагбаум переезда с темно-зелеными снегозащитными елями и коричневатой железнодорожной будкой. Все было тут порушено, повержено.
И опять, Анну озадачили Саша и Антон своим загадочным полунамеком – переговором на ходу. Что такое они скрывали от нее наверняка?
Вот они-то, вопреки всему, было видно, не кручинились от этой участи своей, а по-веселому старались только умно экономить силушки. Так, на спуске они снова подсадили Верочку на санки, взяв ее от Анны и отстороня Наташу, сами встали на полозья и поскольку все спускались почти бегом, не удерживаясь на наклоне, – так и съехали на санках своим ходом вниз. Чем очень довольны были: потешались оттого, что придумана будто бы игра.
Но Антон, разом посерьезнев перед новым – большим – спуском, опять начал:
– Саш, а то, что здесь… ты не забыл, надеюсь?
Саша, память напрягший, спросил:
– Подскажи-ка мне, что?
– Ты не помнишь разве?!
– Ни-и, нипочем.
– Ах, постой; я спутал, извини: в этот раз, это ведь, мы были без тебя… Да, извини меня…
– А кто был? Когда?
– Ну, Валерка, Толька, я – втроем. На лошадке нашей. На Гнедой.
– И что было? – пытал брат настойчиво. – Хоть намекни. Бляха медная…
– То же самое, что началось уже везде. Разве тебе не понятно?
– А-а-а… Поймал!
– Вон Наташа лучше про все скажет…
– Нет, и я сам представляю хорошо… Не будем…
А Наташа в это время молчаливо тянула санки за веревку, не встревала в их переговор. Тем сильней пугалась чего-то Анна:
– Где Валера был, Антон? Вы о чем, скажите мне, прошу… Все-таки я – ваша мать…
И Антон вроде бы не уклонился от ее вопроса, но ее заверил, что они не станут больше ее беспокоить; он проговорил затем почти по-взрослому, как и подобало сыну, ставшему в семье за старшего по мужской-то линии:
– Мам, ты не волнуйся понапрасну, право; просто я же говорил: мы толкуем о своих делах давнишних, ты поверь. – И нацелил зорко пристальные глаз на то бесприметное, сглаженное белой насыпью, и одновременно жуткой место у развился, чуть пониже ее…
XVII
Точно: втроем они – Толик и ссорившиеся с ним все чаще и между тем, несмотря на всю непримиримость, неразлучные с ним (по нужде и обстоятельствам) Валера и Антон – по октябрьскому мягко заснеженному первопутку (благо и пока еще колхозная Гнедая принадлежала и, стало быть, могла служить им в хозяйстве) приехали на розвальнях сюда, в лесок, за дровами. Чтобы выжить в немецкой оккупации, нужно было начинать с чего-то жить, хотя все окружающее, вместе с самим воздухом, казалось, стало уж совсем иным, чем прежде, – будто бы насмешливым, обманчивым, заведомо призрачным; хотя с прежней красочностью никли к земле пучки увядшей травы и кусты под снежным налетом, а над сонно стывшим перелеском сказочно вились, опускаясь, новые снежные пушинки; хотя умная с запалом лошадь по-прежнему легко катила их и широкие полозья дровней, оставляя за собой блестящие полозницы, приятно шелестели по твердому снегу; хотя всем им нравилось так ехать, полусидя на охапке подстеленной соломы и понукая изредка лошадку.
Неисправимый Толик (для него все было трын-трава, хоть кол на голове его теши), кинув окурок, разглагольствовал самонадеянно:
– Эх, пожить бы так годков, может, двадцать!…
– Ну, и что бы ты сделал? – с неприязненностью зацепил его тут Антон.
– Что? Многое: кой-что моя первейшая мечта – шикарный дом отгрохать, огородить его со всех сторон, чтобы не было к нему подступа ни для кого, и ворота поставить, да такие, чтобы, знаешь, можно было прямо к самому дому подъезжать на автомашине.
Братья Антон и Валера засмеялись.
Дудки! Сивый бред! Можешь не надеяться на это – скоро немцев все-таки турнут, турнут отсюда в зад коленкой!
– Черта с два!
– Да-да!
– Они – с могучей техникой; отлажена она у них на ять; они только потому и прут безостановочно, если знать хотите..
– Ну, еще посмотрим…
– А с Гнедой, я говорю, жить нам можно преотлично. Не тужить… Ну, вы поглядите ж, сколько мы дровишек наложили в дровни… Для себя же… Сами будем пользоваться этим, а не кто-нибудь еще… Фантастика…
Да и смолк Толя вдруг – оттого, что на подъеме проходившего стороной большака, за прореженной лесной комой, за железной дорогой, еще не действовавшей, зафырчал мотор автомашины и что она, выбеленная, малозаметная, взобравшись, тотчас резко стала почему-то. Приблизительно с километр белое расстояние отделяло ребят от машины, снежок легкий крапал, и сквозь тонкие штрихи ветвей было смутно видно, что из нее механически повыскочили живчики – тонкие темные фигурки немцев!