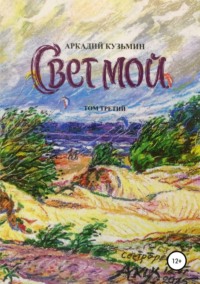
Свет мой. Том 3
– Ты метишь, чтобы ударить меня копытами. Не выйдет, дорогая. Ничего-то у тебя не выйдет. Но, но, не балуй!
Когда же наконец он вел ее под уздцы, над ним зажужжала разгневанная пчела, и он, отмахиваясь, крутя головой, аж чуточку присел в мягкую, как шелк, траву. Да было-то напрасно все: тотчас он почувствовал острую боль в шее – пчела, видимо, запуталась в его волосах и напала все-таки, ужалила.
С чуть зудевшим пчелиным укусом, правя в запряженной бричке норовистым мерином, Антон уже нерадостно думал: «И зачем я только согласился работать с этими лошадьми и нелюбезным Усовым, к которому нельзя привыкнуть?» Но потом остановил себя: «Стоп! Стоп! Я же ведь возвратился к военным будням – ни к чему иному! Добровольно, между прочим…»
Так возобновились они – его армейские будни.
XX
Вскоре все ожидаемо вновь пришло в движение.
6 июня 1944 года англо-американские войска высадились в северной Франции, открыв поздний второй фронт в Европе, а затем и советские войска двинулись в Белоруссии на запад – и был тут обратный сценарий маршу сюда немцев летом 1941 года. Прифронтовые госпиталя принимали раненых и перемещались вперед по освобожденной территории.
Уже ввечеру Саша Чохели, шофер, припозднившись, въехал по пути в Климовичи, вошел в столовую с дорожным металлическим кувшином.
– Саша, давай поешь обед, ты же голодный весь день, – встретила его Анна Андреевна, засуетилась.
– Нет, Аннушка, – оговаривал он. – Мне только котлетку дай или что еще… По-быстрому проглочу. И, главное, воды набрать – для питья. Я раненных немецких офицеров везу в госпиталь. Полный автобус… Некогда…
Ну, конечно же, сослуживцы, любопытствуя, вышли посмотреть на пленных легкораненых немцев, сидевших в салоне на креслах, и те очень услужливо предлагали кому-то сигарету и прикурить, протягивая в открытые окна и зажигая зажигалки. Такое занятное явление! Превращение…
Нет, неверящий в чудеса Антон Кашин нисколько не был очарован теперешним услужительством их, невольных знакомцев. Он смотрел на все по-юношески строже всяких превратностей судьбы, которые ничто-ничто не могло стереть из его памяти – никакие чудесные метаморфозы. Он ясно сознавал: ведь кровавые нацисты, напав на нас, советских людей, несли нам только погибель. Нужно это помнить. И не забывать.
И как-то картинно, неправдоподобно казалось то, что Стасюк, поднявшийся в салон автобуса, по-польски спросил у немецких офицеров, есть ли среди них говорящие по-польски. Промолчали все.
И когда по-хозяйски Саша Чохели внес в автобус кувшин с водой, кружку и включил панельный свет, немцы вдруг залопотали в изумлении – оттого, что у русских в автобусе это есть – действует такое электрическое освещение! Вот открытие для них!
Антон же дивился тому, что безоружный Саша открыто и в одиночку доставлял их в госпиталя, чем проявлял свое обычное солдатское бесстрашие и уверенность в успехе, что было совсем небезопасно в военное время.
– Может быть и ты, Антон, пойдешь с нами, а? – предложил ему дружески в душный обеденный час лейтенант медицинской службы Скосырев. Он увидел его на балконе, а держал под мышкой полотенце. – Давай!..
– А куда, товарищ лейтенант? – больше по инерции спросил Антон, хоть и догадался сразу, куда тот звал: ведь поблизости, внизу, текла настоящая река с ее прохладою…
– Думаем в Днепре искупаться, – сказал, улыбаясь, лейтенант.
– Ой, тогда пойду… – У Антона даже захватило дух от такого предложения: шутка ли! Он не купался нигде с лета сорок первого… Тем более, что на Днепр он еще ни разу не ходил, а с того момента, как они переехали сюда, под Могилев, уже прошло три жарких дня. Немедля он закрыл дверь кабинета командира части изнутри, используя обычную доску вместо задвижки, засунул под ремень полотенце и спустился с балкона второго этажа по привязанной веревке, после чего конец ее забросил обратно на балкон.
Скосырев с любопытством наблюдал за его упражнениями.
– Да, техника спуска, парень, у тебя премудрая.
– Сам додумался до этого, – разоткровенничался Антон, радуясь его расположению к нему и предстоящему купанию. – А иначе нельзя. Кабинет начальства – подполковника Ратницкого. Нет замков и ключей. Он велел мне его покараулить, а сам уехал куда-то на несколько дней. Я все перечитал… Ни туда и ни сюда…
Действительно, он почти безотлучно находился при его служебном кабинете, как бессменный часовой, и здесь теперь фактически и жил, и ночевал на балконе (поскольку в комнате было жарко). А ему хотелось побольше увидать всего, что было, делалось вокруг. Ведь до войны здесь был большой завод автомобильный. Только в первый день он еще съездил на лошадях к одному разбитому корпусу: оттуда они привезли кирпичи (для кладки времянки-плиты). Правда, он выходил из кабинета завтракать, обедать, ужинать; но при том он чувствовал себя неловко за свое невольное бездействие, потому спешил уйти долой с глаз людей.
– А как ты подымаешься опять туда?
– Приставная лестница, и все. Потом выхожу нормально, через дверь – и бегом уношу ее…
– Премудро это все! Пойдем! – скомандовал лейтенант: к ним подоспел сержант Коржев.
Здесь повсюду росли сосны. Был вездесущий песок. И крутой, великий, полный малинника, береговой спуск, в котором нарыли немцы сквозные подземные тоннели, недоступные для бомбежек, вел на широкую зеленую приречную долину. На ней поднялись госпитальные палатки. Под этой горой один за другим часто кружились и садились незаменимые на войне двукрылые «Кукурузники». Они доставляли раненых – их извлекали из кабины, а также из люлек, подвешенных под крыльями, и тотчас же несли в палатки для оказания врачебной помощи.
А ниже по течению Днепра форсированно воздвигался в эти дни деревянный железнодорожный мост, высоченный и длиннющий. Строители там ползали, точно муравьи, по наложенным крест-накрест спичкам-бревнам; на нем шла работа и ночью при ярком электрическом освещении, получаемом от движков. Едва же подлетали немецкие бомбардировщики (уж так пытались немцы разбомбить этот строительный объект), – свет мгновенно выключался.
Когда они втроем подошли к реке вплотную, Коржев, осмотревшись, вдруг торжественно сказал:
– Вон, товарищи, и трос натянут. С берега на берег.
– Ну и что же? – удивился Антон, подобно лейтенанту расстегивая на ходу гимнастерку, чтоб скорей раздеться.
– Очевидно, в этом месте была переправа наших, и ходил паром, – объяснил ему лейтенант. И его моложавое румяное лицо, и его спокойные мягкие глаза светились сейчас одним дружелюбием ко всем.
И как же Антон не замечал того в нем раньше!
– Слушайте! Идем к мосткам. Все безопаснее… – Насчет мин…
Сержант уже гимнастерку снял.
Спешно-спешно, как будто за ним гнались, они разделись подле мостков; побросав одежду, взбежали на просторные мостки, вдававшиеся в реку, и разом шумно бултыхнулись в воду. Антон решил не отставать. И когда вынырнувший лейтенант, захлебываясь от восторга, некстати поинтересовался у него, умеет ли он плавать, он хотел все доказать ему на деле. Что-то прокричал ему и прыгнул в воду. Но, словно в подтверждение его запоздалого опасения, отчаянно забарахтался в ее глубине. К ужасу своему совсем потерял ориентир, касался даже дна – и никак не мог выплыть на поверхность. Это продолжалось, наверное, долго; был уже момент, когда он знал, что окончательно тонул, и точно знал, что надеяться уже не на кого. Однако до конца не верил этому, не испугался все-таки – и где-то – где-то выплыл наконец.
Потому-то Скосырев тяжело блеснул глазами на него и, видно, от волнения из-за него, напружив свой красивый сильный торс, тяжело вздохнул. И отвернулся невольно в сторону. А Коржев пошутил:
– Скажи, пожалуйста! Ты глубоко нырнул, Антон?..
– Э-э, полно вам злорадствовать, фу! – говорил он, вылезая вслед за ними из воды. – Я отдышаться не могу. Просто не купался я давно – три года (последний раз – нырял в двенадцать лет) – вот теперь просто запутался… где дно, а где поверхность… Сразу не нашел, и все…
Оба они засмеялись, подобрели к нему чуть. И Скосырев сказал:
– Да, не скажи гоп, пока не перепрыгнешь.
Потом еще окунулись. Только Антон уже вошел в реку по илистому дну и поплавал недалеко от берега. Тем более, что неожиданно на самой середине Днепра, метрах в пятидесяти отсюда, рванулась какая-то мина, взметнув высоко белый столб воды: заплывать подальше было все-таки опасно.
Иногда они спускались сюда и вечером. И каждый раз Антон подсознательно отмечал, как предельно быстро поднимался новый мост над Днепром: сложенные из бревен быки росли буквально на глазах. И когда темнело, ярко вспыхивала там иллюминация огней – зрелище еще внушительней и красочней.
И однажды удалось ему наблюдать как на возведенный мост замедленно вползал первый эшелон, очень длинный эшелон, составленный, казалось, из совсем-совсем крохотных, игрушечных вагонов – по сравнению с громадными размерами моста! Вот эшелон вполз на мост, и полностью на нем уместился! Потом, постояв, пополз назад.
Антон даже затаил при этом дыхание.
– Да, не скажи гоп, пока не перепрыгнешь, – сказал Скосырев.
И сказанное им Антон применил к себе, а также и к юному сверстнику, который был старше его лишь на год и который, было, тоже пристал к ним, как воспитанник, прошлым летом в пыльном селе под Смоленском. Но, пристав, не ужился почему-то в военной части. А ведь он метил сразу попасть почти в ординарцы. Сметливо-бойкий, разбитной, лобастый, не тихоня. Он быстро понравился всем. И целый день провел в кабинете подполковника. На другой же день исчез дикарским образом, ничего не сообщив о себе никому.
Каково-то пришлось командиру Ратницкому! Пугала неизвестность: где беглец? Что с ним? Немедленно помчались на легковушке к дому матери, отстоявшему отсюда десяток верст; приехали сюда – и он оказался уже дома. Тем не менее, мать умолила Ратницкого (и его доброта и терпение были исключительны) вновь взять в часть сына. И его снова привезли. Со вторичным обещанием вести себя подобающе послушно, смирно. Что ж…
На другой день по случаю Антон зашел в избу, где квартировал командир, и, увидав там вихрастого русоголового мальчика со смелым взглядом, познакомился с ним. Его звали Павлом. Нужно сказать, что Антон еще накануне, размышляя, решил: «Все мы пострадали от войны и равны между собой. Так что будем дружить. Лично я готов. Действительно, если уж он здесь волею судьбы, то буду с ним дружен, если он захочет – мне больше ничего не надо».
– Что, будешь служить у нас? – спросил Антон у него.
– Может, и буду, – неохотно-беззаботно протянул парень, но поглядывал на него ровно свысока, уже определенно осознав свое якобы превосходство, свою исключительность в чем-то. Он будто делал ему какое-то одолжение! – Еще посмотрю. Не привык я, знаешь… Как-то пыльно здесь, а?..
Смеялся тот, что ли, над ним?
Во вторую их встречу третьего дня Павел странным образом засомневался – выпытывал у Антона, нужно ли ему вообще когда-нибудь быть в военной части. Выходило, что у него самого на этот счет ничего пока еще не определилось, не решилось ясно: сильно колебался он. И Антону-то что же оставалось: уговаривать его решиться? Да зачем умасливать? То невозможно. Его опыт нахождения среди военных был лишь собственный, т.е. малопригодный для кого-нибудь другого. Это очевидно всякому.
А четвертого дня Павел, обмолвившись кое-кому о том, чтобы его больше не искали, опять сбежал домой – теперь уж окончательно. По-видимому, был настолько все-таки непоседлив, вертляв и избалован (удивительно для деревенского подростка), что не испытывал никакой нужды – охоты в строгой армейской службе без всякой экзотики; он не мог ее выдержать и лишний час, даже в роли наблюдателя, – все воочию проверилось. Только к лучшему. И покамест поначалу было ему еще интересно – было что-то новое и то, что его почему-то обихаживали все, – он еще мирился несколько с неудобствами какими-то; ну, а дальше этого не пошло – вот не хватило у него верного характера, нужной собранности и тихой жажды увлеченности на жертвенность собой. Не каждому она дана. Не с каждого и спросится. Проще, разумеется, дать обратный ход.
Итак, страсти по приручению улеглись. Наглядно разрешились.
Происшедшее и также недавний выбор Антона без раскаяний потом, то, как остро сам переживал раннюю разлуку с близкими, по-новому показывали ему со всею очевидностью, что в любом значащем поступке важно твое устремление первоначальное; мало нам надежды на случайное везение, надо приучать себя к стойкой последовательности во всем (и в суждениях) и учиться знать, что можно позволять себе, а что нельзя совершенно, и уметь по чувствам своим судить о чувствах других людей. Ведь ничто не дается даром.
Вскорости все забыли о Павле. Будто бы и не был он. Да и скоротечной случилась остановка при селе, чтобы о том помнить как-то.
XXI
Дорога вела в Белоруссию.
Позади остались Днепр и освобожденный Могилев с раскрашенными зелено-пятнисто (под окружающий летний пейзаж) фасадами еще уцелевших зданий – попытка изощренных насильников-немцев маскировкой сбить с толку, и так задержать наступавшие советские войска. Да все тщетно оказалось: уже ничем не сдержать их неудержимый натиск. Враг отступал ускоренно. И несколько армейцев вместе с Антоном радостно катили вперед по шоссе в старом дребезжащем автобусе. Да вдруг остановились на дорожном подъеме по причине важной. Здесь, под зелеными шатрами придорожных лип; громоздилось несколько наших тяжелых танков, самоходок; они, выведенные из строя, – на салатного цвета броне у них виднелись следы – отметины от вражеских снарядов, – они ремонтировались сразу в полевых условиях. И тут солдатня, споря об их мощи, даже лезли к башням танков и с уважением измеряли шириной ладони, приложив ту к стали, толщину лобовой и боковой брони. Проявляли свою заинтересованность. Ничего себе – она, броня, толстенная! И так обстоятельны, степенны измазанные мазутом танкисты в черных комбинезонах. Также с оживленным, лихорадочным блеском в глазах – оттого, что дела фронтовые теперь шли успешно. Лучшего и желать нельзя.
А на покатом шоссе с азартом катались-сновали на самокатах, в просветах среди пробегавших военных автомашин, местные мальчишки возраста Антона и поменьше. Замурзанные, но несказанно счастливые. Да, было это рядом: война, танки и детство, хрупкое и неистребимое, прорвавшееся опять в мальчишеских сердцах. Вместе со счастьем обретенной вновь свободы. Самокатчики вольно разбегались, катились под уклон горки; они не хотели играть в войну – ею, настоящей, были сыты. Понять можно. Лишь в одном Антон чуточку позавидовал им, так мимолетно встретившись с ними, – что он сам-то уже был далек от чего-то подобного, от возврата к нему детских забав. В то же время и очень гордился, что находился сейчас здесь, в потоке советских перемещающихся войск, в самой гуще событий, куда стремились и они, его сверстники, побыть вместе с радостью своей. И ведь никто не запрещал им кататься на дороге, никто не ругался из-за этого на них: радость была всеобщей – они тоже дополняли ее своим оживлением, своей суетой, словно были ее особенной приметой этих ясных дней.
Это было наяву. И на виду.
На фоне мрачных завалов разбитой военной немецкой техники и машин брели в плен кучки манекенов – серых зачумленных вояк-немцев; дымились их стоянки обугленные – кладбища оружия и лесные угодья – с оборванной их жизнью; в спело-желтых, ломких для глаз разливов ржаных полей кучно застыли навсегда черные пугала – десятки заползших танков. Они осели под ударами фугасов. А нежные хрупкие ржаные колоски, качаясь, клонились к шафрановой земле.
XXII
Все автобусные пассажиры сразу стихли в напряжении, когда ехали по Минску: перед их глазами он явил гордо свой горький лик – обезлюденный, обескровленный, разваленный немецкой военщиной за три года его оккупации. Уже слишком знакомая картина по освобожденным советским городам и поселениям, которые приходилось видеть. По обе стороны минских улиц горкой торчали одни каменные развалины, нагромождение руин, осыпи, норы и хаос; вдобавок витки колючей проволоки и заборы опоясывали кварталы и уцелевшие еще здания, было занимаемые нацистами. Неужели же подобный ад возможен? Да также не придумаешь нарочно, если только в здравом уме находишься. Кто-то из армейцев, сожалея, комментировал въявь увиденное, а кто-то от того лишь прицокивал языком, как бы осуждая твердолобость немецких крестоносцев, уверовавших в способность какими-то колючками и заборами обезопасить себя на нашей территории и выжить, уцелеть. Они сами себя загнали в западню. И ничто уже не спасет их от полного разгрома.
Перед летящим по Минскому шоссе автобусом, – выползли откуда-то из-за зелени кустов – несколько немецких замызганных солдат. На, тебе! Они словно бы голосовали. Знаками не то велели, не то просили остановиться; неизвестно, что замыслили; однако видно: шмайсеры у них в руках опущены с покорностью. В худшем случае, все равно уже не успели бы проскочить мимо них без всякого урона для себя… При двух-то имевшихся у офицеров пистолетов… Да, известно, было-то пока небезопасно здесь, ибо фанатичные до конца гитлеровцы из числа окруженных и еще не выловленных полностью, случалось, даже нападали теперь и на наши тыловые санитарные автомашины. Убивали, грабили. Всего полчаса назад, как рассказали, совсем курьезная история приключилась в одном здешнем селе за полночь. Хозяйка пустила на ночлег в свой дом молоденьких бойцов; они пристроились на полу, заснули. А ночью снаружи в окно застучали подошедшие эти незваные гости. И потребовали: – «Матка, яйки! Млеко!» Ненасытные прожоры. Видишь ли, лопать им подай! Оголодались, поди. Ведь всю войну напролет они только и долдонили перед русскими бабами: яйки, млеко, сала! Хотя сами мигом всю-то живность вокруг слопали. Итак, немцы-окруженцы в окно: тук! Тук! Тук! Матка, млеко, яйки! Шнель! Услыхали этакое ночевавшие в избе бойцы – да и началось невообразимое: они с полу повскакали, полусонные, поначалу и не могут, значит, все понять – сообразить. Крикнули команду, кинулись куда-то в сторону – вон из избы. И те прожоры в другую сторону дали деру. Так, видать, и разошлись. Без единого выстрела.
Ну, а эти фрицы чего ждали-поджидали? При подъезде к ним шофер Авдеев тормознул.
И вот запыленная, серая, во френчах, солдатня с почернелыми физиономиями, почти масками, охотно побросав под ноги карабины, ясно жестами показывала, что сдается в плен. Мол, берите их.
Старший лейтенант Папин вышел из автобуса и велел им теперь самим топать дальше в тыл – там обязательно возьмут их в плен. Да, да! И он для пущей убедительности махнул рукой в восточном направлении. Тем не менее, солдаты, несомненно, столь привычные к немецкому порядку, тотчас не могли, наверное, взять в толк, возможное для них такое шествие свободное, без всякого конвоя; они в нерешительности побрели самостоятельно дальше, зацокали сапогами, но еще оглядывались беспокойно на ходу, точно проверяли, правильно ли поняли команду, которую отдал им русский офицер.
Однако, не успокоившись, и на этом, они вскорости остановили тоже встречную полуторку – верно, обратились с прежним своим предложением. Только и те военные, кто ехал в ней, также отмахнулись от них напрочь – показали на восток.
Вот какая незадача вышла на дороге. Что же получалось: они, вояки, выбывшие из войны, больше никому и не нужны? Совсем не опасны? Полное им доверие? Ну-ну!
Перед Березиной-рекой пошла местность низинная, болотистая, и автобус уже натужно втянулся в зыбкую езду по неровному и хлипкому бревенчатому настилу. Технически мыслящие немцы положили для себя здесь бревна (из разобранных тоже изб) на всем дорожном протяжении – похоже, среди топкой обширной, белесой под солнцем низины с осоковой растительностью и цепким кустарником. Чернели по сторонам рыхлые провалы и месиво: следы от разрывов снарядов и мин. Но, к удивлению едущих, сколько ни тащились, ни тряслись в автобусе, вдали все еще не просветливала ожидаемая глядь реки. И только явственней, определенней и настойчивей, чем дальше ехали, потянуло отовсюду сладковато-приторным запахом. Не сразу и сообразили, что это такое. Капитан Никишина, еще поморщившись, проговорила удрученно:
– Как неприятно пахнет, товарищи! Слышите?..
– Трупный это запах, – сведуще сказал, покусывая губы и не оборачиваясь с кресла, старший лейтенант Папин. Ведь жара: разлагаются убитые в бою…
– Неужели? – И платочком некоторые дамы нос зажали. Больше подзатихли.
Кто-то предложил:
– Так давайте пока все окошки закроем – уж как-нибудь перенесем, думается, духоту…
– Извольте, пожалуйста! Можно…
Защелкали закрываемые верхние окошки.
Тем не менее, по-прежнему воняло приторно, а двигались медленно, настил пружинил, прыгал под тяжестью автомашины; значит, нужно просто смириться с этим – выдержать, коли пришлось. Не иначе.
«Ну, скоро ли, – росло у Антона нетерпение, – скоро ли проглянется она, река, знаменитая известным бегством некогда наполеоновских войск из России, а теперь – и гитлеровцев; их, безумных завоевателей, одинаково осилила река нашего народного гнева – смыла позором, и они бесславно покатились, сломя и теряя голову».
Наконец-то впереди, за зелеными мазками деревьев, проблестело, обозначась четко, плоское однообразное водное пространство, какое-то незыблемое, неказистое на первый взгляд, совсем не величавое.
«Что и все?! – всматривался Антон в реку с разочарованием: надеялся увидеть что-то исключительное, несравненное. – Ну, разумеется: Березина – всего лишь приток Днепра. А Днепр, начинаясь на Смоленщине, и сам в здешних местах еще невелик».
Обыкновенная, без особенных примет, Березина текла спокойно и извечно по избранному ей руслу, как и сотни лет назад.
XXIII
В предвечерний час воинский автобус с управленцами уже катился за пыльным белорусским городком Негорелое – известном пункте прежней, проходившей здесь до 1939 года, государственной границы СССР. Оттого и ехавший в запыленном салоне автобуса солдат Стасюк, первый советчик и доброжелатель Антона Кашина, все никак не мог смолкнуть – вел себя невоздержанно, как одержимый, но вполне нормальный все-таки человек, если разобраться. Он после осеннего ранения на передовой все безраздельно хозяйствовал при кухне. И сейчас, показывая свои желто-прокуренные зубы, что-то говорил и говорил – целые цитаты и фразы по-русски и по-польски. Словно всем напоминал, что еще не забыл чего-то и даже чуть ли ни пел вслух. Когда он с волнением называл города – Столбцы, Мир, Турец, Кореличи, которые предстояло теперь проехать в освобожденной вновь западной Белоруссии, казалось, что в этих названиях звучала сама музыка. Понятно все. На то были у него свои веские причины. Он именно здесь родился и жил, батрача, до 1939 года – времени освобождения территории Красной Армией; отсюда он подался на Кубань – и до войны жил там одиноко. Из родных же у него осталась в здешних краях одна сестра, и все. И он очень надеялся – если она жива, здорова – свидеться с ней вскорости. Сколько – целых пять лет – не видел ее и не знал ничего о ней!
Оставалось совсем немного ехать.
В долгом, перемещающемся на запад, потоке советских войск и кочующего туда-сюда народа, когда разбиты дороги и мосты и только наведены временные узкие переправы, нередко возникали скопления, заторы, а то и обычные казусы и перебои в работе автомашины, вследствие чего длились всевозможные остановки. Полдень давно наступил: немыслимо пекло солнце над самой головой; влажный воздух дрожал от испарений – было душно. Стлалась от движения пыль. Вокруг тарахтели военные грузовики; лязгали колесами брички, телеги; слышались довольные то русские, то польские, то приглушенные немецкие – пленных солдат – голоса. И заманчиво прекрасные, чистые сосновые и еловые боры обступали там-сям шоссейки.
Автобус мчался.
– А вот, пожалуйста, и Кореличи мои! – возбужденно Стасюк заглядывал в автобусные окна.
Въехали в уютно-красивый городок, утопавшей в зелени, – к нему вплотную подступали поля желто колосившейся ржи. В нем белел камнем костел, красовались разные небольшие тротуары, фонарные столбы… Однако не успели еще развернуться, как автобус вдруг резко замедлил ход – оттого, что звучно – выстрелом – хлопнуло что-то. Он заметно осел. Светлолицый шофер Авдеев чертыхнулся слышно: случился непредвиденный прокол шины. Он тут же несколько отрулил от дороги на площадку, под развесистый дуб и почти радостно (что же делать?) объявил всем:
– Все, вылазти, хлопцы! Приехали, можно сказать… Перекур.
Все сослуживцы послушно вышли наружу и стали бесцельно ждать момента, когда он залатает прорезанную острым снарядным осколком камеру. Тем временем, пользуясь подвернувшимся случаем, что Авдеев мог и провозиться долго с колесом, Стасюк умолил (и все поддержали) старшего лейтенанта Папина, финансового работника, назначенного ответственным за рейс, отпустить пока его – ему не терпелось повидать сестру. И так уговорились, что Стасюк может при благополучном исходе прибыть завтра прямо в Новогрудок – и адрес ему дали.