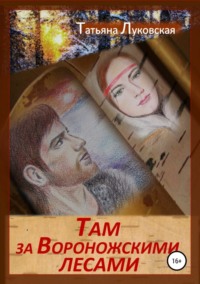
Там, за Вороножскими лесами
– А что я, я ж так…
Проню любили слушать вечерами у костерка, его байки всегда были самые страшные, но сегодня все так устали, что было не до побасенок. Дойдя до примеченного леска, путники быстро организовали ночлег, пожевали скудные запасы, и повалились спать. И только Демьян опять долго ворочался, подкладывая под голову то одну, то другую руку, даже усталость не могла усыпить его растревоженную душу.
Утро встретило отряд ярким солнышком и искрящимися от мороза сугробами, будто и не было вчера вьюги. Все дышало умиротворяющим спокойствием, тишина резала ухо.
Запасов овса в притороченных к седлам торбах оставалось совсем немного. Вои осторожно по горсточке с рук стали кормить оголодавших лошадок. Демьян раскрыл ладони для более слабой Зарянки, поглаживая кобылу по спутанной гриве:
– Терпи, родная, терпи, – приговаривал он.
Лошадь фыркала и жадно ела угощение. У самого боярина в животе урчало от голода. В кожаной суме лежали с десяток сухарей и немного солонины. Это богатство необходимо было растянуть на несколько дней. Оставались ведь помирать и коней, навьюченных съестным, отдали липовецким, чтоб добро не досталось недругам. Теперь Демьян как старший, корил себя за это, да назад уж поворотить ничего нельзя было.
Ветерок между тем не стал ждать своей очереди, а отошел в сторонку и начал старательно разгребать глубокий снег копытом. Белые хлопья полетели в разные стороны, а морда скрылась где-то в сугробе. Вои подбежали посмотреть, чего там нарыл боярский конь.
– Гляди-ка, – зашумели они, – мохнатый до травы докопался, сам корм себе нашел!
Люди кинулись щитами раскапывать новый пушистый и старый слежавшийся снег, открывая и для своих коней тощую и вялую, но все же свежую травку.
Позавтракав, стали неспешно сбираться снова в путь. Демьян решил сам еще раз подняться на курган и свериться по бабе с направлением. Утопая по колено в снегу, он взобрался на вершину и встал рядом с истуканом. Каменный идол был на четверть выше боярина. Теперь при свете дня Олексич хорошо рассмотрел его. Это оказалось необычное женское изваяние. Широкоплечая степная жена24 держала на руках крохотного, разметавшего ручки и ножки младенца. Лицо ее выражало суровое спокойствие. Среди курских каменных баб были в основном мужи-воины или одинокие прародительницы в богатых одеяниях, но ни разу Демьян не встречал идолиц с младенцами. Как завороженный он взирал на эту странную пару.
Вдруг ему почудилось, что каменные глаза сузились, брови сдвинулись, а трещина рта искривилась. Лицо бабы пылало гневом, но гнев этот был обращен не на ольговского боярина, злые глаза смотрели поверх его плеча куда-то на восход. Демьян невольно обернулся и замер, открыв рот. По белой бескрайней степи ехал отряд. Черные фигуры всадников были хорошо видны на ярком морозном снегу. Олексич быстро пригнулся к земле.
«Около сотни, не меньше, – насчитал он. – Кто же это? Может, наши в метель заблудились или решили все-таки к Телебуге ехать? Да нет, у Липовецкого князя людей-то побольше будет. И едут спокойно, как хозяева, словно это их вотчина. Как бы на нас не вышли, от местных удирать сложнее, они здесь каждую кочку знают. А я, дурак, даже дозор не выставил».
Демьян буквально скатился с кургана.
– Костры все погасили?! Всадники там, едут с восхода. Дружина большая.
Оставив лошадей, все поползли наверх, взглянуть своими глазами на новую угрозу.
– Видите? – указал боярин своим десятским.
– Должно, рязанцы в Орду едут, – предположил Первуша.
– Рязанцы этой дорогой не ездят, зачем им круг такой скакать, – заметил Горшеня.
– Может тогда татары?
– Рязанцы, татары али еще кто, нам все равно с ними встречаться ни к чему, – Горшеня отер снегом лицо. – Пусть себе мимо едут. А если сейчас на нас поворотят, так десным краем леса вдоль оврага уходить надо.
– Всем, вниз, – негромко скомандовал боярин, – и наготове быть.
На вершине он остался лишь с десятниками. Три пары глаз внимательно следили за неизвестной дружиной. Отряд продолжал ехать неспешным ходом, полукругом заворачивая к югу. Какая-то темная сила исходила от него, и Демьяну почудилось, что над головами всадников висит черная дымка. Сразу же вспомнилось искаженное ненавистью каменное лицо. «Может, и прав Пронька, когда нечистую везде видит, – Олексич перекрестился. – Не добрые это люди, ох, недобрые, кто бы они ни были». Уже было ясно, что Бог опять милосерден к ольговцам, и им не придется удирать от неведомого врага, но все равно Демьяна не покидало чувство дурного предзнаменования.
Через какое-то время вслед удаляющимся к окаему всадникам показалась стая волков, она брела в том же направлении, что и отряд.
– Следом бегут, как псы верные, – усмехнулся Горшеня, – Поживы какой ждут.
Несмотря на внешнюю бодрость, в голосе старого воя тоже чувствовалась срывающаяся тревога. Видать не только Демьяну померещилось недоброе.
– Вот и пусть за ними крадутся, – подал голос Первуша, – а мы с Божьей помощью своих догонять поспешим.
– Как думаете, на нашу дружину эти не могли напороться, едут ведь с восхода, может сеча была? – спросил у десятников боярин.
– Не видать, чтобы раненых тащили, – заметил Горшеня. – Да и сбились мы к полудню, наши севернее прошли.
– Дай-то Бог.
3
Дождавшись, когда чужой отряд и следующие за ними волки скроются за горизонтом, ольговцы поспешили в дорогу. Демьян на прощание незаметно кинул взгляд в сторону бабы. Та по-прежнему невозмутимо взирала на снежные дали. «Спасибо», – про себя сказал он ей, и тут же, устыдившись, кинулся шептать молитву Пресвятой Богородице.
«Пресвятая Дева Мария, Матерь Божия, может ты через эту идолицу мне спасение послала. Ежели же сейчас мыслями этими грешу, то прости неразумного. Исповедаюсь, как возможность будет».
Сначала пробираться через заметенную снегом степь было трудно, но вскоре путники вышли на протоптанную чужими копытами дорогу, и лошадки побежали порезвее.
– Я так думаю, чтобы снова не заплутать, надо двигать на восход, пока Дон не встретим, а там уж к полуночи25 завернем на Вороножские леса, – предложил Горшеня, – а на заставах рязанских поспрошаем, куда наши подевались.
– Это верно, – впервые согласился со старым десятником Первуша. – Тем более, что дружина эта волчья с восхода пришла, дорогу нам уже протоптала. Вот по их тропочке с ветерком и поскачем.
Все как-то приободрились, повеселели. Полились шутки, опять припомнили Вьюну, как он ночью на бабу половецкую напасть хотел. Осип добродушно отмахивался, мол, сами б на моем месте попробовали бы в темноте, да в метель чего углядеть, а там бы и зубоскалили.
Через несколько верст они наткнулись на место ночевки чужой дружины: на широкой поляне посреди небольшой дубравы, у подножия очередного мелового холма, виднелись с десяток пепелищ, некоторые еще дымились. Всюду валялись обглоданные кости и следы крови. Очевидно, люди закололи какую-то живность себе на ужин. На запах жареного мяса и крови сбежались волки. Вначале, судя по следам лап, хищники держались на приличном расстоянии, а потом, когда отряд отъехал, кинулись обгладывать, то, что осталось от человеческого пиршества, и, не насытившись, последовали дальше за людьми.
– Богато живут, – бросил Первуша, глотая слюну, – еды видно вдоволь, раз хватает и серых приманивать.
Не останавливаясь, ольговцы поехали дальше.
Вытоптанная неведомым отрядом дорога начала уходить с холма вниз, там в широкой балке раскинулся еще один лесок. Над деревьями испуганным кругом метались вороны, сварливо каркая на кого-то внизу. Что-то манило их в чащу, но неведомая сила не давала спуститься. И от этого воронье выходило из себя, поднимая гомон.
Ольговцы, не сговариваясь, потянулись за оружием. Замедлив, разрезвившихся на морозе лошадок, они медленно стали спускаться в овраг. Какая еще незримая пока опасность могла ждать на дне?
Вертя головами и внимательно всматриваясь вдаль, отряд углубился в лес. Глазастый Проня сразу приметил вдоль тропы следы двух босых ног, и пятна свежей крови. Все удивленно переглянулись. Странный след шел вначале параллельно дороге, а потом резко уходил в сторону чащи, туда, где кружило воронье. В том же направлении тянулись и многочисленные волчьи следы. Выходит, еще одна стая загоняла какого-то разутого бедолагу. До слуха явственно долетел рык нескольких пастей.
Демьян первым хлестнул Зорянку, рванув за деревья, следом кинулись остальные. Рычание стало слышаться все громче и громче. Когда разгоряченная лошадь боярина, ломая кусты, ввалилась на проплешину, волки, сгрудившиеся вокруг дикой яблони, замерли, оценивая противника. Самый крупный, очевидно вожак, хотел уже кинуться на Демьяна, но за спиной Олексича появились его дружинники. Не дожидаясь плетей, хищники кинулись наутек.
На старой яблоне, в одних портах, по пояс голый и босой, сидел парень, на вид не больше двадцати лет от роду. Побелевшими пальцами он судорожно вцепился в крону дерева, глаза были закрыты, губы отливали синевой. Из рваной раны на лодыжке медленно капала кровь.
– Эй, ты живой?! – крикнул ему Первуша.
Глаза медленно открылись, губы зашевелились, но ничего произнести не смогли.
– Снимайте его, живо! – приказал Демьян, – да костер разводите. Пронька, у тебя кожух запасной есть, сюда давай!
Двое дружинников полезли на дерево снимать несчастного, они с трудом расцепили окоченевшие руки и стащили парня вниз.
– Не жилец, – глядя на мертвенно-белую кожу, заявил Проня, с явным сожалением отдавая для незнакомца кожух.
– До ста лет проживет, – весело отозвался Горшеня, быстро растирая бедолаге пальцы ног и ступни, – живучий! Вы мне две сумы найдите, я их разрежу, да ему обувку справлю. В мороз босиком негоже бродить.
– А мои сапоги где? – прошептал незнакомец.
– Вот те раз! – всплеснул руками десятник. – Да откуда ж мы знаем, милый, где твои сапоги!
– Отдайте, они старые, поношенные, вам за них ничего не выручить, а это отца память. В них помереть хочу! – парень разволновался, вцепившись в руку Горшени.
– Видать у тебя от холода разум помутился, – старый вой по-отцовски похлопал несчастного по плечу, и принялся перевязывать холстиной раненую лодыжку. – Мы тебя, мил человек, первый раз видим, и уже босого.
Ярким озорным пламенем вспыхнул костер, от него сразу же пошла горячая волна. У несчастного порозовели щеки, до этого скрюченные пальцы рук медленно стали разжиматься.
– Воду ставь, кипяточку ему надобно хлебнуть! – крикнул Горшеня Проньке, продолжавшему в сторонке оплакивать свою шубу.
– Ты кто? – обратился к незнакомцу уже Демьян.
– А вы кто? – испуганно оглядываясь, вопросом на вопрос ответил парень.
– Вот ведь, нахал! – возмутился Пронька. – А еще в моем кожухе сидит!
– Ты кто? – повторил Демьян без злобы, но по тверже.
– Не скажу, пока сами не скажитесь, – глаза незнакомца зло сверкнули.
– Вот ведь волчонок! – ахнул Первуша, – Ты как с боярином то разговариваешь, неблагодарный!
– Оборотень он! – заорал Пронька, часто крестясь и пятясь назад. – Голый в мороз, да еще среди волков, точно оборотень! От того нечистый и не сказывается!
– Сам ты оборотень! – разозлился парень, показывая на груди веревочку с распятием. Демьян понял, что этого хоть в костер кидай, все равно не ответит, пока своего не добьется. Отчего-то этому бедовому необходимо первым узнать, кто они – люди спасшие его.
– Мы – куряне, отстали в метель от своей дружины. А ты? – боярин вопросительно посмотрел на незнакомца.
– А чего куряне у нас забыли? – не унимался парень.
– У нас. Стало быть, ты местный? – поймал его на слове Демьян.
Незнакомец угрюмо молчал.
– Послушай, – Олексич присел на корточки рядом с парнем, – мы людей, что тебя обидели, не знаем. Я тебе в том, чем хочешь, побожусь. Сами от них за курганом прятались, ждали пока уйдут. Ежели ты нам не скажешь, кто ты и откуда, мы тебя домой не сможем вернуть.
Лицо у парня дрогнуло, Демьян понял, что «бредет» в нужную сторону.
– А так отвезем тебя, куда скажешь, – продолжил он ласковым голосом. – А грабить твоих мы не станем, да и подумай, что у вас возьмешь-то после этих. Ведь все, наверное, подчистую вынесли, так?
– Так, – вздохнув, согласился парнишка.
– Ну, так куда тебя везти?
– К дивам.
– Куда? – не понял боярин.
– К дивам, – повторил незнакомец, – в Печерский Успенский монастырь. Я послушник, Афанасием звать.
– Монастырь меловой, прямо в горе?
Афанасий утвердительно кивнул.
– И много вас там?
– Пять старцев и я, и еще один в затвор ушел смирения ради, по весне к нам вернется.
– А обидчики ваши кто?
– Бродники26.
– А веры какой? Поганые27? – влез в разговор Первуша.
– По-нашему говорили, и кресты у всех на шее висели, – Афанасий шмыгнул носом.
– И что же они Божий монастырь разграбили?
– Все вынесли, что только можно: образа, книги, кадила медные прихватили, даже лжицы для причастия. Курочек наших порубили, коз забрали, здесь в лесу закололи, ироды. Хорошие козочки были, молока много давали. И муку, и жито28, все выгребли, старцам ничего не оставили. А на верху клети деревянные у нас стояли, так подожгли из озорства одного. Меня забрали, чтобы в Орде на рынке продать, а старцев трогать не стали, за них никто цену не даст, – как недавно отрок упорно молчал, теперь он говорил, обрушивая на слушателей словесный поток. – А могли бы и еды игумену Стефану оставить, для своих же, для раненых. Они у нас своих раненых кинули, мол, не жильцы, помрут скоро, так вы их погребите по православному.
– Раненых? – сумел вклиниться Горшеня. – А откуда они в монастырь ваш заявились?
– Из-под Вороножа, оголодали они и заставу разграбить хотели. Да воевода там толковый, осаду крепко держал, а потом ему неведомо откуда помощь пришла. Разбили нечестивцев, по разговору много их там полегло.
– Так это ж наши подошли! – радостно вскрикнул Пронька, и тут же осекся под суровыми взглядами обоих десятников.
– Про то я не знаю, а раненых четверо, все тяжелые, – продолжил Афанасий, – а отец Стефан увозить меня не давал, так они его плетью стегнули, а он упал…
Парень отер слезы.
– А на яблоне ты как раздетым оказался? – поинтересовался Демьян.
– На ночлег стали, так они меня связать хотели, чтобы не убежал, а старший их и говорит: «Нечего с веревками возиться, разденьте, да пусть у костра сидит. Куда он денется». А я под утро взял и побежал, уж и не знаю зачем. Будто мне шепнул кто-то: «Беги». В сумерках о корягу вот ногу распорол, а как совсем рассвело на старую тропу вышел, а тут волки, я от них, да на дерево, а они караулить… засыпать начал, вцепился покрепче, чтобы не сорваться, а тут вы… Вот и все…
– Пальцами пошевели, чуешь? – спросил Горшеня.
– Чую.
– Как же ты, Афонюшка, ноги-то не отморозил?
– Не знаю, – пожал плечами послушник.
4
Вот и дивы! Коренастые меловые столбы нависли над закованной льдом Тихой Сосной – великаны, тянущие седые головы к небу, но вросшие ногами в округлую гору. Чудо, созданное ветрами там, где лес и степь кланяются друг другу.
– И впрямь, диво! – восхитился Вьюн, запрокидывая голову.
– Да, у нас красиво, – с гордостью, расправляя плечи, подтвердил Афанасий.
– А где ж монастырь? – Демьян, как ни старался, не мог разглядеть следов пребывания здесь человека, кругом был только снег, да серый мел.
– Так это карабкаться надо, – Афоня показал куда-то вверх за дивы.
– Как же вас бродники углядели? – удивился Олексич, – Отсюда ж невидно.
– По следам, – вздохнул послушник, – к реке за водой спускались. Это сейчас после метели все запорошило.
Оставив внизу лошадей на дозорных, ольговцы следом за Афанасием начали подниматься в гору. Склон на вид пологий на деле оказался довольно крутым, но привычный к подъемам и подгоняемый радостью смешанной с тревогой, послушник летел наверх, заставляя спутников тоже задыхаясь ускорять шаг. Обогнув чреду див, они увидели черную дыру пещеры. Вход был невелик, и чтобы войти, следовало низко наклониться выбитой прямо в стене меловой иконе Успения Пресвятой Богородицы.
– Это я, Афанасий! – еще издали радостно закричал отрок.
Из пещеры выглянула седая голова.
– Афонюшка, Афонюшка наш вернулся! – раздался счастливый крик. Сухой и длинный старец в потертой рясе кинулся обнимать парнишку. Потом растерянно посмотрел на воев.
– Не бойтесь, это куряне в Воронож едут, меня от смерти спасли, – поспешил успокоить инока Афоня.
Из пещеры вышли еще три старца, тоже худощавые, убеленные сединами, но еще крепкие. Афанасий упал перед одним из них на колени. Это и был игумен Стефан. Через обветренное, изрезанное морщинами лицо, пролегла красная полоса – след от разбойной плети. Настоятель ласково потрепал парня по соломенным волосам, глаза его внимательно смотрели на Демьяна.
Боярин быстро поклонился, снимая шапку.
– Так куряне, стало быть? – прищуриваясь, спросил старец.
– Мы из липовецкой дружины князя Святослава, – начал объяснять Демьян, – под рукой его брата Александра Ольговского ходим. Я – Демьян, сын ольговского тысяцкого Олексы Гаврилыча.
– Из липовецкой, – задумчиво произнес игумен, – а жив ли еще Лука, протоирей соборной церкви липовецкой?
– Жив – здоров был, как уезжали.
– Дай-то Бог, помню, борода у него знатная была, густая, а сам богатырь, голос – что труба иерихонская, – глаза старца по-прежнему цепко держали взгляд молодого боярина.
Демьян понял, что старец его испытывает.
– Голос у него действительно на зависть, а вот сам он роста махонького, да и бороденка жиденькая, – боярин улыбнулся, потом серьезно добавил. – Мы вам зла не причиним, от своих мы отбились, в метель заплутали. Нам бы переночевать, да дорогу к рязанским заставам показать.
– Что ж, проходите, простите старика за недоверие. Времена уж больно лихие.
Пещера запахом сырого мела напомнила Демьяну погреб в родном доме. В детстве он любил украдкой пробраться по узкой земляной лесенке к огромным кадкам с мочеными яблочками, выбрать самое большое и съесть его прямо там, в уютной темноте. Холопки видели озорство хозяйского сынка, но никогда Демьянку родителям не выдавали. Все любили его, а он… Боярин отбросил, нахлынувшие воспоминания.
Посреди пещеры была небольшая церквушка, своды ее подпирали массивные столбы, расходившиеся под потолком в широкие арки, в глубине при свете лучин свежим деревом радовал глаз резной иконостас, в нем как раны чернели дыры на месте выломанных татями икон. После погрома иноки успели навести порядок, но недавняя трагедия читалась не только в пустых киотах, и скудости оставшейся церковной утвари, но и в очах старцев, чьи многолетние труды в одночасье были уничтожены безжалостной алчной рукой.
От церкви в разные стороны шли узкие коридоры. Гостей проводили в трапезную, широкую комнату с очагом и маленьким оконцем в стене для отвода дыма. На грубо сколоченном липовом столе было пусто.
– Вот здесь переночевать можете, – указал игумен на выдолбленные в меловых стенах лавки, – коли не хватит места, так прямо на полу стелите. Это самая большая и теплая горница, дрова вон в углу, подбросите, коли выстудит. Угостить вот вас только нечем, разве что отваром из чабреца. Братья сейчас заварят.
– Не надо, – поспешил остановить его Демьян, – у нас покушать есть с собой, вои дорогой двух зайцев подстрелили. Внизу у коней уж костер разводят, похлебку варить. Мы и вам принесем.
– Нам мяса нельзя, – покачал головой старец.
– Так ведь с голоду помрете, на чабреце долго не протянуть!
– Брат Зосима к брату Антонию в затвор пошел, у того пища есть кое-какая, поделится. Травки под снегом пособираем. Да и рыбачить на Тихой Сосне станем. Места здесь рыбные, Бог не даст пропасть. Вы уж не обессудьте, вас ушицей не накормим, монастырь убирали да за ранеными ходили, не до рыбалки было.
– Раненые, – вспомнил Демьян, – живы еще?
– Трое преставились, один покрепче еще жив, в бреду мается. Ему похлебочки принесите, если очнется, вольем.
Олексичу было жаль еды для бродника, два зайца на двадцать здоровых мужиков и так маловато, только утробу дразнить, а тут еще душегуба и святотатца кормить. Но старца Демьян обижать не хотел, поэтому согласно кивнул.
К вечеру, не объясняя своим для чего, боярин понес остатки варева в келью, где лежал раненый. Настоятель сам сидел над умирающим. Огромное грузное тело, раскидав руки и ноги, чернело на широкой лавке. Если бы не слегка подымающаяся при вздохе грудь, можно было бы принять его за покойника. Рядом горела лучинка. Стефан рукой указал на край мелового уступа подле себя. Демьян сел рядом со старцем. Оба какое-то время молчали.
– Ну, говори уж, – подбодрил парня игумен.
– Знаешь, что поговорить пришел? – удивился Демьян.
– Да, у тебя все на лице написано.
– Грешен я, – неуверенно начал боярин, – показалось мне на днях, что баба половецкая мне знак подала, чтобы я от бродников схоронился. Понимаешь, отче, я дозоры расставить забыл, а потом по неразумности своей идолищу поганому «Спасибо» сказал.
– За то Бог тебя уж простил, раз дал тебе душу безвинную спасти – Афонюшку нашего. Про то ты и сам знаешь, ведь о другом сказаться хочешь, так?
– Так, – признался Демьян.
– Сказывай, ночь длинная.
– С самого начала?
– С начала.
5
– Знаешь, отче, край наш Курский после Батыя оскудел очень. Князья из стольного города съехали в Рыльск и Липовец. Голодно у нас, да и неспокойно. Как и вы между лесом и степью живем, заслониться нечем. А земля наша досталась в вотчину Ногаю, он хоть и не царь, а силы столько, что и в Сарае его побаиваются. И пришел к нему магометанин один Ахмат, дал откуп немалый, чтобы баскаком над нами быть и выход собирать. Думал по незнанию своему, что на серебре да злате теперь есть – пить станет, а приехал к Курску, да огляделся вокруг и понял, что прогадал. Обманул его Ногай как дитя малое. Выколачивать нечего да не с кого. Людей мало, села пустые стоят, а какие жители остались, вокруг князей своих сгрудились, по городам сидят. Начал он с Рыльска, с Воргола, с Липовца дань требовать, к нам в Ольгов послов засылал, а ему князья ответ один твердят – бери, сколько даем, а больше нету. А войска своего у Ахмата не было, чтобы курских князей приструнить. Вот он и придумал хитрость нам на погибель.
Поставил в степи две слободы, и стал переманивать туда наших людей. Мол, кто ко мне жить переберется, один налог будет платить, а кто у князей останется, то и князьям, и мне платить станет. А разгневают ваши князья Ногая, то вас в слободе никто не тронет, так как вы моими людьми станете. Нешто вы выгоду свою не чуете? Ну, и побежали к нему, конечно, многие. Слободы людьми наполнились. Торговля закипела, землю вокруг распахали. Так и этого ему мало показалось, сколотил дружину из воев местных, что к нему утекли, и стал разбойничать, чтобы побольше народу запугать, да заставить в слободы съехать.
Князья наши все терпели, сил у них больше, чем у Ахматки, да боялись его открыто проучить, за ним ведь Ногай стоит. А тут слух пошел, что царь с темником рассорились. Олег Рыльский нашим князьям и предложил, съездить к Телебуге за судом справедливым. Собрали подарки, последнее вытрясли, и поехали с поклоном. А Телебуге только того и надо было, обрадовался, дал нам приставов своих, чтобы мы людей из слобод вывели.
Ахмат вначале не пускал нас, а потом послов царя узрел, и ворота все ж приказал открыть. Стали мы своих забирать, а они ехать не хотят, обжились уж люди в слободах, плакали да бранились, князей худыми словами поносили. За нами вроде как правда, а как вспомню, аж внутри все переворачивается. Крики их так в ушах и стоят.
Вывели мы всех, приставы уехали, а у Святослава Липовецкого глаза на богатства баскака разгорелись. Вот, мол, как живет на добре нашем. Слободы надо сжечь, а все, что там ценного себе воротить, наше это по закону.
Отец мой тогда к князю Александру ходил, молил его, уговорить брата, не лезть больше к Ахмату: «Позор там найдете, да заклятого недруга, а не добычу. Людей вывели по цареву слову, а грабить никто вам воли не давал. Перед Ногаем уж не оправдаетесь». И Александр с отцом моим согласен был, но Святослав никого и слушать не хотел. Он всегда сам все решает. Вот ночью и полезли, бой был, посад пожгли, а детинец29 взять не смогли, отступили.
А Ахматка к Ногаю помчался, да начал на князей петь, что они крамолу против темника замышляют. Ногай за Олегом послал, чтобы явился на суд. Рыльский князь не будь дураком, сразу почуял, чем все закончиться может, и дома остался, на Святослава очень зол был за выходку его ночную. Все возмущался: «Отчего Липовецкий князь разбой учинил, а отвечать мне?!»
А вскоре дозорные из степи примчались, войско от Ногая идет несметное по наши души. Князья все бросили и бежать: Олег в Сарай к царю, а Святослав к рязанцам в Воронож.

