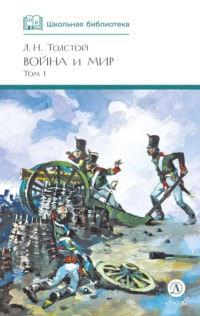
Война и мир. Том 1
Современники войны 1812 года часто называли духовный подъем русского народа «воспламенением сынов Отечества». У Толстого встречался похожий образ. Он упоминал некий скрытый огонь, отблески которого там и тут вспыхивали на лицах участников битвы. На страницах «Войны и мира» это был огонь земного, раздраженного и вместе торжественного чувства, разлитый в переживаниях каждого из русских. Вечером накануне сражения Андрей Болконский на вопрос Безухова о том, от чего будет зависеть победа, отвечал: «От того чувства, которое есть во мне, в нем, – он указал на Тимохина, – в каждом солдате». Этот земной огонь, этот жар, подирающий по коже, пронизывал при Бородине всю живую плоть русской армии. Солдаты, офицеры, генералы поступали лишь по его велению, обретая каждый в себе физически ощутимую «святыню жизни». Это она двигала в романе тысячами отдельных импульсов, определяя характер сражения и его исход. Русское войско представало как единый, чуждый всему формальному, «сгусток естественного бытия».
Споры о том, кому принадлежала победа на Бородинском поле, не затихают и по сей день. Толстой был одним из первых, кто в потомстве определил результат сражения как безусловную победу русской армии. Завершая описание битвы, он сказал об этом в самых торжественных словах, ныне ставших едва ли не хрестоматийными. «Не та победа, – говорил писатель, – которая определяется подхваченными кусками материи на палках, называемых знаменами, и тем пространством, на котором стояли и стоят войска, – а победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородиным».
Вслед за Толстым сегодня мы верим, знаем: это так и есть, Бородино – нравственная победа наших предков, наша победа. И все же величественный итог Бородинского дня подводился писателем совершенно в духе его собственных философских воззрений. Какую нравственность имел в виду Толстой? Ни один участник сражения, пожалуй, не посмел бы назвать знамя куском материи на палке. За знамя отдавали жизнь. То была самая честная, праведная смерть. Но Толстой определенно хотел противопоставить моральную победу русских этим, как он утверждал, кускам материи, воплощенному в них державному нравственному началу. Иначе рассуждать, по всей вероятности, он не мог.
Андрей Болконский под Аустерлицем, устремляясь со знаменем в атаку, почувствовал: знамя на ветру тяжелое, оно клонит человека к земле. Очевидно, он мог бы ощутить фактуру ткани, из которой пошито знамя, его цвет. Больше оно ни о чем не говорило естественному чувству, во всем принадлежало к разряду пустых «отвлеченностей». Болконский убедился в этом всего миг спустя после своего аустерлицкого ранения. «Как тихо, спокойно и торжественно, – думал он при виде плывущих по небу облаков, – совсем не так, как я бежал, ‹…› не так, как мы бежали, кричали и дрались…» «А, знамена!» – рассеянно, как о чем-то постороннем скажет Кутузов в «Войне и мире» после сражения под Красным, когда его внимание обратят на захваченные трофеи. Говоря о нравственной победе русской армии при Бородине, Толстой, как и прежде, имел в виду торжество дорогого ему, как полагал он, безгрешного, земного бытия.
* * *Среди многих и многих персонажей «Войны и мира» Андрей Болконский и Пьер Безухов занимали совершенно исключительное место. Говоря о Ростовых, капитане Тушине, русских солдатах и офицерах, Толстой описывал дорогую ему бессознательно-нравственную жизнь, которая подчиняется прежде всего инстинкту и чутью. Она была не в состоянии осмыслить собственную «святость», понять, почему она такова. Нечто подобное происходило и с действующими лицами иного рода. Курагины, Друбецкие не думали, хорошо или плохо то, что они затевают в данный момент. Андрей Болконский и Пьер Безухов, исключая отдельные «проблески» моральных суждений у других действующих лиц, несли в себе уже полностью осознанное стремление найти в мире нравственное начало, построить свою жизнь в согласии с ним.
Расположенные к самоанализу герои «Войны и мира» между тем изначально несли на себе печать противоречия, свойственного взглядам их создателя. Получалось, что в их лице цивилизованный человек при помощи отвлеченного разума хотел познать нечто, отрицающее разум; что рассудок, не основанный на чувстве, нужен человеку лишь для того, чтобы убедиться в ненужности такого рассудка. Ибо до тех пор, пока человек будет разумным, он не достигнет полноты совершенства, в лучшем случае разум потребуется ему для защиты естественного течения жизни от цивилизованного вмешательства. Искания героев неизбежно устремлялись к тому, чтобы освободить во всей возможной полноте «неомраченное» чувство, достичь тем самым дорогих Толстому ценностей бытия, неотделимых от самой природы.
Разумеется, у того и другого героя были разные дороги к одной цели. Открытый, безалаберный, наивный, праздный Пьер Безухов. Сдержанный, внешне холодный, сосредоточенно деятельный князь Андрей. В судьбе каждого из них сбывалась единая логика, но сбывалась по-своему.
Обоих героев отличала своеобразная «честность мысли», оба они искренне служили тому, что в данный момент считали истиной. Может быть, именно это внутреннее благородство и стало главной причиной того, почему вот уже несколько поколений читателей так искренне сопереживают князю Андрею и Пьеру, вслед за их создателем так любят этих героев. Собственный разум не был для них игрушкой, как для умницы-дипломата Билибина. Убеждение и жизнь следовали тут нераздельно. Оттого и были столь болезненны, глубоки постигавшие обоих душевные и жизненные катастрофы. Зато и моменты «обретения себя» тем и другим героем означали самое полное торжество внутреннего идеала «Войны и мира».
На протяжении первых томов книги Болконский и Безухов не раз терпели поражение, попадая в «ловушки» цивилизованного мира, испытывая на себе его сокрушительное воздействие. У князя Андрея была наполеоновская мечта, было одинокое, философически оправданное «доживание» в Богучарове, потом – разбитые надежды семейного счастья и желание отомстить своему обидчику Анатолю Курагину… Безухова «сбивали с пути» навязанный герою брак со светской распутницей Элен, мертвая трясина масонской мистики…
В 1812 году героям предстояло «возродиться» через участие в народной войне, открыть глубинные истины о жизни человека и мира. Решающая борьба с Наполеоном действительно оказалась для многих из тех, кто жил тогда в России, моментом такого прозрения. Но прекрасные, возвышенные персонажи произведения все-таки действовали в пределах «новой реальности», сложно соотнесенной с подлинными законами истории, духовными законами Вселенной. Сами они составляли неотъемлемую часть этой реальности и потому вполне по-толстовски постигали в сокровенных ее основах толстовскую же картину мира. Нечего и говорить, что каждое погружение писателя в душевный мир того и другого несло при этом непреходящие художественные открытия.
Отечественная война, какой она предстала у Толстого, дала (в отпор неприятельскому нашествию) исключительную свободу заложенным в мироздании добрым, естественным началам. Князь Андрей и Пьер тоже должны были пройти через «очищение» в самих себе этого природного источника красоты, гармонии, правды. Оба они с началом боевых действий смутно испытывали потребность бежать от любых «отвлеченностей» туда, где вершится «живая жизнь». После увиденной в Дрисском лагере настоящей схватки штабных и придворных страстей Болконский по собственному выбору, повинуясь только чутью, становится простым и деятельным полковым командиром. Отказался он позднее и от предложенной Кутузовым должности при штабе – должности, грозившей поставить его «над жизнью». И старый полководец, хранитель этой естественной жизни, хорошо понял его решение: «Нам не сюда люди нужны!» Точно так же Пьер Безухов, сам не зная, как и почему (все нравственное в «Войне и мире» совершалось непроизвольно), покинул Москву с ее «цивилизованным кипением», чтобы неожиданно для себя (только так, а не иначе!) появиться на Бородинском поле в самый канун сражения.
Нельзя сказать, что судьбы героев на первом этапе войны были свободны от прежних и даже новых, по ходу дела возникающих «помрачений». Князь Андрей, кажется, лишь отодвинул до поры гордые планы своей мести Курагину. Увлекающийся Пьер принял самое живое участие в московской встрече государя (по логике романа, все же пустом, несущественном деле) и даже, на волне общего энтузиазма, взялся «выставить» новый полк на собственные деньги. Именно битва при Бородине означала для каждого из них ту особую черту, за которой героям начинала открываться подлинная святыня толстовского мира. Андрей и Пьер, каждый на своем месте, переживали этот решающий день как своеобразное «вхождение» в тайну «естественного» бытия. Безухова еще могли посещать и в дальнейшем «атавизмы» цивилизованной мысли вроде его намерения, переодевшись мужиком, убить Наполеона, но «импульс» Бородина продолжал вести его единственно возможной в романе дорогой.
Участь князя Андрея, смертельно раненного на поле Бородина, почти во всем была сродни судьбам тысяч русских воинов, которые «положили живот за други своя» в невиданном прежде побоище. Но свою великую жертву герой романа все-таки приносил в таком художественном мире, где предполагалась некая исключительная нравственность с ее особенной, туманной первопричиной. Последние недели на земле стали для умирающего Болконского временем окончательного ее постижения. Просто и непосредственно герой открывал в себе те самые ценности, во имя которых он не щадил жизни в бою.
При всем обилии существующих превосходных оценок рассказа об этой смерти все они кажутся бедными. Никогда – ни до, ни после «Войны и мира», ни даже в самой книге – Толстой больше не создавал ничего подобного. Медленное угасание князя Андрея рисовалось в целой веренице сменяющих одно другое внутренних видений, недолгих «возвращений» героя в окружающую реальность, мыслей о жизни, о себе под углом того, что открывал он теперь в приближении своего земного конца. От последовательности в течении болезни (этому удивлялись даже военные врачи, наблюдавшие людей с такими точно ранами, как у Болконского) до смены у раненого различных душевных состояний – все передавалось настолько правдиво, что можно было говорить о подлинной «диалектике смерти». На этот раз Толстой показывал смерть по-своему идеальную. Главным тут было нравственное «возрастание» героя: ничем не нарушаемое, мирное, устремленное к одной, ясно различимой цели.
Бородино окончательно избавило князя Андрея от его мстительных планов и честолюбивых надежд. Уже в первые часы после своего ранения он испытал словно возвращение в «самое дальнее детство», в ту пору человеческой жизни, что всегда казалась Толстому счастливейшей, не омраченной страстями цивилизации. И вместе с этим к Болконскому пришло чувство новой, лишь в детстве испытанной любви. Эта любовь ко всем людям на свете переполнила собой душу князя Андрея при виде рыдающего на операционном столе, изувеченного в бою его вчерашнего врага – Анатоля Курагина. И она же позднее прозвучала в его словах, обращенных к Наташе Ростовой во время такой неожиданной для обоих встречи в Мытищах: «Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде».
Но эта новая любовь, обретенная героем с почти невозможной на земле полнотой, уже предвещала его недалекий уход. Она и была сама тем безличным нечто, которое прежде иногда открывалось князю Андрею в самых сильных его переживаниях. «Всё, всех любить, – говорил Толстой о своем герое, – всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнию. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью». С каждым днем своего умирания Болконский все дальше уходил в ту огромную, даже более отдаленную, чем его собственное детство, ту, предшествующую жизни, бывшую до появления героя на свет, будущую после его конца, безбрежную субстанцию любви. «Любя всех», он больше не мог земной любовью, как прежде, любить Наташу, княжну Марью, любить своего сына Николушку…
Смерть Андрея Болконского, и это очевидно каждому, кто бы ни читал «Войну и мир», вовсе не представлялась Толстому исчезновением. В потрясающих душу красках тут был показан переход, возвращение жизни от поверхности к центру, от разобщенного личного к общему и безличному. Это начинал понимать в самые последние свои дни после приснившейся ему (поразительно!) смерти перед смертью и сам герой. «Да, смерть – пробуждение!» – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его».
Была ли то христианская смерть? Показывая медленное движение своего героя «в область любви», Толстой упоминал его интерес к Евангелию. Еще на перевязочном пункте при Бородине Болконский вспоминал о том, чему учила его православно верующая княжна Марья. В рассказе о последних часах князя Андрея было сказано, что его причастили и соборовали. Все эти приметы русской веры тем не менее словно принадлежали миру живых, для самого же умирающего речь велась о чем-то совсем другом. Некогда великий современник Толстого К. Н. Леонтьев – чуткий, любящий читатель «Войны и мира», отдавая должное таланту писателя, вынужден был признать верования князя Андрея «своевольными и бесформенными», определить их как «филантропический пантеизм». «Приятно, – говорил он, – что к этой «кончине живота» можно приложить почти все трогательные эпитеты церковного моления: и «мирная кончина», и «безболезненная» и, конечно, уж «не постыдная», а «честная и славная»! Но очень обидно, что главного из этих эпитетов – «кончина живота христианская» – произнести нельзя! Конечно, жаль, и больно, и обидно»[6].
Как не разделить и нам горечь замечательного мыслителя! И как не удивляться вслед за ним всепокоряющей силе дарования Толстого! В то же время, увлеченный красотой художественного описания, Леонтьев, пожалуй, не заметил, а скорее не захотел вынести на свет важнейшее обстоятельство: «филантропический пантеизм» Болконского не был только достоянием героя «Войны и мира». Он пронизывал собой все произведение, определял как таковую внутреннюю позицию его создателя. Им дышало все толстовское Бородино, так же как и «бородинская» смерть князя Андрея.
Испытавший на себе многие ужасы решительного сражения, видевший своими глазами «разгорание» чувственного огня в русском народе и войске, по-своему приблизился к пониманию «вечной гармонии мира» и мечтательный Пьер Безухов. Только он постигал ее, продолжая «путь жизни», оставаясь в пределах собственной личности, сопричастной новым испытаниям 1812 года. Скитания по Москве, объятой пожаром, допрос у маршала Даву, потом расстрел, не состоявшийся, но пережитый как реальность в предсмертном опыте других, наконец, недели московского плена и долгое движение под конвоем вслед за отступающими французами…
Безухову (он остался жить) не суждено было, как Болконскому, «войти» в ту безбрежную любовь, что могла сполна открываться у Толстого лишь умирающему. Но ощутить ее присутствие в себе, в мире вокруг, воспринять остро, до конца, ее «верхний», чувственно уловимый слой, предположить за ним какое-то иное всеобщее качество добра он сумел, как никогда прежде. Более того, Пьер не только «ощутил» жизнь во всей ее полноте, но и «вывел» наконец из этого ощущения по-своему законченные понятия. Главы, где было показано пребывание героя в плену, давали своеобразное обобщение, «прояснение» всей художественной реальности «Войны и мира».
«Живая жизнь» (великое благо во всех своих проявлениях) «выкинула» Пьера «из накатанной дорожки», избавила на время от «привычек цивилизации», заняла простейшими интересами, связанными с поддержанием собственного тела. И тем открыла самое себя, «освободила» в герое радостную силу непринужденных ощущений, помогла распознать бессмертную (так думал Толстой) природу чувства. Именно теперь, «обращенный в ничтожество», Пьер испытал состояние безбрежного слияния с миром, а значит, неограниченной свободы и счастья. И как результат пережитого, казалось бы, незначительное происшествие с часовым, однажды преградившим Безухову дорогу (тут невольно приходит на память легенда о Ньютоновом яблоке), вдруг оборачивается для «московского пленника» «мировым» открытием: «Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого – меня? Меня? Меня – мою бессмертную душу! ‹…› Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!»
Открытие, сделанное Безуховым, разумеется, не было новостью для самого создателя «Войны и мира». Вот таким же «балаганом, загороженным досками», представала вся цивилизованная, оформленная реальность на страницах его книги. И чем сильнее, агрессивнее вторгалась она в «живую жизнь», тем свободнее становилась эта жизнь, тем полнее сближалась со своим истоком.
Найденное Безуховым «бессмертие в чувстве» между тем представляло собой только поверхность, «биосферу» толстовского божества, было «неполной истиной». Та религиозная система, что «прояснялась» в сознании героя, вела Пьера к пониманию также последней «безличной глубины», которая так непосредственно открылась Болконскому и которой все больше становился сам Болконский в его последние дни. Эта «зияющая бесконечность» – подлинный адресат всех молитвенных обращений на страницах книги (от молитвы Наташи Ростовой, «внутренних устремлений» княжны Марьи до всеобщего бородинского молебна) – открылась Безухову через фигуру его «товарища по несчастью», пленного солдата Платона Каратаева.
Образ этот, в отличие от десятков других, которые появлялись в «Войне и мире», кажется, единственный не имел в себе почти никаких строго индивидуальных, ясно очерченных примет. Если в чем и состояла его «отдельность» от прочих действующих лиц, то именно в его безличности. Каратаев был земной житель, и потому он трудился: с утра до глубокой ночи даже в плену находил себе разнообразные занятия; он, как умел, помогал другим пленным, любил поговорить о жизни, любил петь. Но все это словно не имело на себе и малейшего отпечатка его собственной личности. «Он все умел делать, – говорилось у Толстого, – не очень хорошо, но и не дурно». «Он пел песни, – продолжал писатель, – не так, как поют песенники, знающие, что их слушают, но пел, как поют птицы, очевидно, потому, что звуки эти ему было так же необходимо издавать, как необходимо бывает потянуться или расходиться…»
Безличная святыня «Войны и мира» обретала в этом герое (хотя в отношении Каратаева понятия: герой, действующее лицо, тип, характер – всегда окажутся неверными) настоящего своего подвижника. Пребывая в текущей действительности, он словно был уже вполне погружен в ту любовь, то безбрежное «все», которое, согласно Толстому, «говорило о себе» в каждом отдельном «я»: «Привязанностей дружбы, любви, как понимал их Пьер, Каратаев не имел никаких; но он любил и любовно жил со всем, с чем его сводила жизнь, и в особенности с человеком – не известным каким-нибудь человеком, а с теми людьми, которые были перед его глазами. Он любил свою шавку, любил товарищей, французов, любил Пьера, который был его соседом; но Пьер чувствовал, что Каратаев, несмотря на всю свою ласковую нежность к нему (которою он невольно отдавал должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился бы разлукой с ним. И Пьер то же чувство начинал испытывать к Каратаеву». Действительно, даже и смерть «соколика Платоши», ослабевшего в дороге и пристреленного французами, похоже, «не огорчила» ни его самого, ни подготовленного к этому Безухова. Завыла только собачка, приласканная убитым, и тем лишь раздосадовала Пьера: «Экая дура, о чем она воет?» «Атом бытия», «круглый» Каратаев нырнул с поверхности вглубь. Вот и все.
Тут по-своему для Толстого разрешалось (а на деле, скорее, только углублялось) мучительное противоречие между ужасом войны и поэзией войны. Выходило, что француз, убивший Каратаева, сам того не ведая, совершил великое благо – вернул его туда, где ему и надлежало находиться. Хорошо жить, но хорошо и умереть. Потому что в этой последней любви, этой «нирване» и наступит наконец «вечное счастье» избавления от себя, избавления от личности. Там не будет воздаяния каждому «по делам его», найдется место всем: «понимающим» и «непонимающим». Даже и Наполеон, должно быть, услышит в свой последний час только одно: «Теперь-то наконец ты понял?» – и сольется навсегда с князем Андреем, жертвами Аустерлица, Бородина…
В долгом пути поисков, которым шел Безухов на протяжении четырех томов «Войны и мира», момент смерти «праведного» Каратаева означал достижение конечной цели. «Жизнь есть все. Жизнь есть Бог. Все перемещается и движется, и это движение есть Бог. И пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества», – «выводил» для себя Пьер едва ли не конечную формулу толстовской веры 1860-х годов. И как бы во избежание «фразы» тут же находил «обоснование» этой мысли в конкретном образе.
Безухов припоминал старика учителя, который в Швейцарии учил его географии. Но вместо обычного глобуса воображению героя представлялся теперь «живой, колеблющийся шар, не имеющий размеров». «Вся поверхность шара, – говорилось далее, – состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стремилась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожали, иногда сливались с нею». Учитель, давая свой урок, объяснял, что это и есть жизнь. И затем «выстраивал» перед потрясенным «учеником» уже законченную картину Вселенной: «В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез».
Яркая «модель мироздания», которую то ли наяву, то ли во сне увидел Безухов, далеко выходила за пределы собственных переживаний героя. «Новая реальность» романа словно постигала в ней саму себя. Тут раскрывалась до конца и дорогая Толстому «мысль народная». «Совершенный» Каратаев не случайно «отдавал должное духовной жизни Пьера». Что Каратаев бессознательно заключал в себе, то Безухов открывал уже вполне осмысленно. Наученный жизнью «маленького солдатика» и больше – его смертью, он приближался к постижению именно каратаевских истин, тех самых, что, верил писатель, исповедует и весь русский народ.
«…Платон Каратаев, – говорил Толстой, – остался навсегда в душе Пьера самым сильным и дорогим воспоминанием и олицетворением всего русского, доброго и круглого». И, словно желая утвердить эту «краеугольную» в романе идею, добавлял далее по тексту: «Платон Каратаев был для всех остальных пленных самым обыкновенным солдатом. ‹…› Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким он и остался навсегда». Впечатления героя и собственный взгляд художника в данном случае шли нераздельно. Лучшим тому доказательством было прямое упоминание в рассказе о Безухове слов из толстовского «символа веры»: «простота и правда».
Все нравственно одаренные герои романа, десятки и сотни народных типов – все «подлинное», о чем шла речь в «Войне и мире», уходя корнями в русскую почву, так или иначе наполнялось «каратаевским духом», таило в себе частицу Каратаева, устремлялось в итоге к этому образу-олицетворению. Семья Ростовых, семья Болконских, Безухов, капитаны Тушин и Тимохин, офицеры, солдаты, мужики, Кутузов – все эти люди, каждый по-своему, утверждали и охраняли такую «мысль народную». Это она здесь и сейчас подняла над неприятелем страшную дубину и «гвоздила» до тех пор, пока «чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью». И она же обещала там, в ином существовании на земле, ничем не ограниченное слияние со своими врагами. В ней видел Толстой причину самого полного торжества в 1812 году «русского народа и войска». Он искренне полагал, что это и есть «мысль христианская». Рассуждая о закономерности русской победы, «развенчивая» кумир Наполеона, писатель так и сказал: «Для нас, с данной нам Христом мерой хорошего и дурного, нет неизмеримого. И нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Каратаевское и христианское были для него, по сути, одним и тем же.
Долгие годы, если не всю жизнь, Толстой мечтал о воссоединении расколотого русского мира. Прежде всего тут имелись в виду простой народ и представители европейски образованных сословий. Герои более ранних произведений писателя: Нехлюдов из повести «Утро помещика» (1856), Оленин из другой повести – «Казаки» (1853–1862) – тщетно искали взаимопонимания, один – со своими крепостными крестьянами, другой – с обитателями кавказской станицы. Народная среда из рассказа «Севастополь в декабре месяце» определенно противостояла «цивилизованным» персонажам «Севастополя в мае», и последний рассказ цикла «Севастополь в августе 1855 года» только отчасти заключал в себе «образ национального единства».

