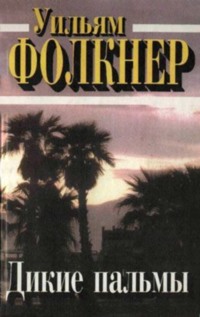
Ход конем
Весь сюжет был перевернут задом наперед, сказал дядя, все роли и действующие лица пьесы смешались и перепутались: дочь играла и произносила то, чему следовало быть ролью и репликами отца; не отец, а дочь отстранила героя детского романа (неважно, сколь непрочной и эфемерной эта связь была, сказал дядя и – по словам его, Чарльзовой, матери – во второй раз спросил, знает ли кто-нибудь, как звали этого героя и куда он девался), чтобы уплатить по закладной на поместье; дочь сама выбрала человека вдвое старше себя, но обладающего прикосновением Мидаса, хотя роль отца должна была именно в том и заключаться, чтобы его найти и, если нужно, даже оказывать давление, чтобы старый роман (и его, Чарльзова, мать рассказала, как дядя опять повторил: неважно, сколь никчемный и эфемерный) был окончательно порван и забыт, а свадьба состоялась, хуже того: если бы даже супруга выбрал отец, сюжет бы все равно развивался наоборот, так как деньги (по словам его, Чарльзовой, матери, дядя и про это спросил дважды: был ли этот тип Гаррисс уже богат или просто казалось, что он разбогатеет, если получит в свое распоряжение достаточно времени и достаточно людей) уже принадлежали отцу, даже если их было не так много – ведь, как сказал дядя, человек, который читает по-латыни ради удовольствия, не захочет иметь больше, чем он уже имеет.
Однако они поженились. Затем следующие пять лет те, кого дядя называл многочисленным поколением незамужних старых тетушек, которое спустя семьдесят пять лет после Гражданской войны все еще существует, составляя опору общественного, политического и экономического единства Юга, следили за ними, как читатели следят за ходом событий в очередном продолжении романа.
В свадебное путешествие они поехали в Новый Орлеан, как в те времена поступали в тех краях все, кто считал свой брак законным. Потом они возвратились и недели две ежедневно приезжали в город в старой потрепанной виктории (у ее отца автомобиля никогда не было и никогда не будет), запряженной парою рабочих лошадей, с кучером-негром, который на них пахал, облаченным в комбинезон со следами спавших в нем или на нем кур, а может даже и сов. Потом она – виктория – иногда проезжала по Площади; в ней сидела только молодая жена, и лишь через месяц город обнаружил, что ее муж уехал, воротился в Новый Орлеан к своему бизнесу – так впервые стало известно, что у него есть бизнес и где таковой находится. Однако даже и тогда и еще целых пять лет они не узнают, что это был за бизнес.
Итак, теперь город и округ мог смотреть только на молодую жену, которая в своей старой виктории одна приезжала за шесть миль в город, то ли навестить его, Чарльзову, мать или другую из шести своих прежних подруг, то ли просто прокатиться по городу и по Площади, а затем вернуться домой. Потом, еще месяц она просто проезжала по Площади, да и то лишь раз в неделю, тогда как прежде это случалось чуть ли не каждый день. Потом, еще через месяц, в городе не появлялась даже виктория. Казалось, она наконец сообразила, напоследок поняла то, о чем уже два месяца весь город да и округ тоже говорил и думал, – ведь ей тогда едва исполнилось восемнадцать, а по словам его, Чарльзовой, матери, ей даже и столько нельзя было дать – она, эта худенькая, темноволосая, темноглазая молодая женщина ростом с маленькую девочку, выглядывавшая из-под балдахина виктории, словно из входа в какую-то пещеру, сидела, притулившись одна на заднем сиденье, где свободно могли разместиться пять или шесть таких, как она; по словам его матери, она даже и в школе не отличалась особыми способностями, да к этому и не стремилась, а по словам дяди, может, вовсе в них и не нуждалась, будучи созданной для простой любви и скорби; то есть, по всей вероятности, для любви и скорби, ибо наверняка не для надменности и гордости – ведь ей не удалось (если она вообще когда-нибудь ставила себе такую цель) напустить на себя самоуверенность или даже выказать браваду.
И теперь многие, а не только те, кого дядя называл незамужними старыми тетками, вообразили, что знают, каким именно бизнесом Гаррисс занимается, и что бизнес этот давно уже завел его гораздо дальше Нового Орлеана – наверняка миль на четыреста или пятьсот дальше, – ведь хотя дело и происходило в двадцатые годы, когда люди, скрывавшиеся от суда, все еще считали Мексику достаточно далекой и безопасной, человек, о коем идет речь, вряд ли нашел в этом семействе и на этой плантации достаточно денег, чтобы без Мексики никак нельзя было обойтись, не говоря о том, чтоб до нее добраться, – или вообще счел, что бегства ему не избежать, и, наверное, лишь собственные страхи заставили его проехать даже те триста миль, которые составляли расстояние до Нового Орлеана.
Однако они ошиблись. Он возвратился к Рождеству. И как только он действительно вернулся туда, где они смогли опять увидеть, что он ничуть не изменился, что он все тот же – мужчина неопределенного возраста, обходительный, краснолицый, вкрадчивый, лишенный воображения и изящества, все сразу встало на свое место. В сущности, никогда и не было иначе; даже те, кто раньше и увереннее всех утверждали, будто он ее бросил, теперь были больше всех убеждены, будто нисколько этому не верили, и когда он после Нового года уехал опять, как любой другой муж, которому не повезло в том смысле, что его работа, бизнес, находится в одном месте, а семья – в другом, никто даже не заметил день его отъезда. Теперь их не интересовал даже его бизнес. Теперь они знали, чем он занимается – незаконной торговлей спиртным, и не просто сбывает из-под полы какую-нибудь жалкую бутылку виски в гостиничных цирюльнях – ведь теперь, когда его жена в одиночестве проезжала по Площади в своей виктории, на ней была меховая шуба, и как только джефферсонцы эту шубу увидели, он сразу вырос в глазах города и округа и завоевал их уважение. Ведь он не только добился успеха, но, следуя лучшим традициям, тратил деньги на своих женщин. Мало того – традиция, которой он придерживался, была для Америки еще более старинной и прочной: он добился успеха не просто вопреки Закону, он победил Закон, словно побежденным им противником была не какая-нибудь неудача, а сам этот Закон, и теперь, возвратившись домой, он ходил среди них не просто в ореоле успеха, романтики, бравады и запаха выдохшегося бездымного пороха, но также и в ореоле деликатности, ибо у него хватило такта делать свой бизнес в другом штате за триста миль отсюда.
А бизнес был крупный. В то лето он вернулся домой в самом большом и сверкающем автомобиле изо всех, каким когда-либо случалось заночевать в границах округа, с незнакомым негром в униформе, который только и делал, что этим автомобилем управлял, мыл его и полировал. Потом появился первый ребенок, а с ним и кормилица – светлокожая негритянка, намного бойчее и уж во всяком случае шикарнее любой белой или чернокожей женщины в Джефферсоне. Потом Гаррисс снова уехал, и теперь ежедневно можно было видеть, как все четверо – жена, младенец, облаченный в форму шофер и кормилица – в большом сверкающем автомобиле раза два-три в день проезжают взад-вперед по Площади и по городу и даже не всегда где-нибудь останавливаются, а вскоре округ и город узнали, что куда, а может даже и когда они поедут, решали негры.
На то Рождество, а потом и на следующее лето Гаррисс приехал снова, и родился второй ребенок, а первый начал ходить, и теперь все прочие жители округа, а не только его, Чарльзова, мать и остальные пятеро подруг ее юности, наконец узнали, мальчик это или девочка. А потом их дед умер, и тем Рождеством Гаррисс взял в свои руки плантацию и от имени жены или, вернее, от своего собственного имени пребывающего в отсутствии лендлорда вступил с неграми-арендаторами в соглашение, сделку, согласно которой им надлежало целый год обрабатывать землю, в сделку, из которой, как все знали, ничего путного получиться не может – о чем, как полагал округ, сам Гаррисс даже не дал себе труда позаботиться. Ведь ему это было безразлично; он делал деньги сам, и прервать свой бизнес лишь ради того, чтоб управлять скромной хлопковой плантацией даже в течение одного года, было равносильно тому, как если бы заядлый жокей в самый разгар сезона сошел с беговой дорожки с целью развозить молоко.
Он делал деньги и ждал, и вот и впрямь наступил день, когда больше ждать было незачем. В то лето, возвратившись домой, он провел там два месяца, а после его отъезда в доме уже был электрический свет и водопровод, а вместо скрипенья ручного колодезного ворота и мороженицы воскресными утрами денно и нощно раздавались механические звуки – стук и гуденье насоса и динамо-машины, а от старика, почти пятьдесят лет просидевшего на веранде со своим пуншем да с Горацием, Катуллом и Овидием, теперь не осталось ничего, кроме самодельного кресла-качалки из гикори, отпечатков пальцев на книжных переплетах из телячьей кожи, серебряного бокала, из которого он пил, да старой собаки-сеттера, которая дремала у его ног.
Его, Чарльзов, дядя заметил, что влияние денег оказалось даже сильнее, чем призрак старого стоика, провинциального домоседа-космополита. Возможно, дядя считал это влияние даже сильнее, чем присущую дочери старика способность к скорби. Так, во всяком случае, считали все жители Джефферсона. Ибо прошел тот год, и Гаррисс приехал на Рождество, а потом на месяц летом, и оба малыша уже ходили, то есть должны были ходить, хотя никто в Джефферсоне не мог в том поручиться – ведь никто никогда не видел их нигде, кроме как в проезжавшем мимо автомобиле; старая собака – сеттер – была уже мертва, и в тот год Гаррисс отдал всю пахотную землю чохом в аренду человеку, который даже не жил в округе, а во время сева и сбора урожая каждое воскресенье вечером приезжал за семьдесят миль из Мемфиса и всю неделю ночевал в заброшенной негритянской лачуге, пока субботним полднем не наступало время возвращаться в Мемфис.
Потом настал следующий год, и той весною арендатор привез своих собственных батраков-негров, так что теперь не было даже тех негров, которые жили в старом поместье и поливали своим потом его землю еще до рождения миссис Гаррисс, и теперь от старого хозяина не осталось совсем ничего, потому что его самодельное кресло, серебряный бокал и ящики с потрепанными книгами в переплетах из телячьей кожи лежали на чердаке у его, Чарльзовой, матери, а человек, который арендовал землю, жил в доме в качестве управляющего.
Потому что миссис Гаррисс тоже уехала. Она тоже не уведомила Джефферсон о своем отъезде. Это был даже некий сговор, ибо его, Чарльзова, мать знала, что она уезжает, и знала куда, а раз его мать знала, то и остальные пятеро тоже знали.
Сегодня она была там, в доме, из которого, как думали джефферсонцы, она никогда не захочет сбежать – вопреки тому, во что он этот дом превратил, вопреки тому, что дом, где она родилась и прожила всю свою жизнь, кроме двухнедельного медового месяца в Новом Орлеане, стал теперь чем-то вроде мавзолея, опутанного электрическими проводами, водопроводными трубами, снабженного автоматическими машинами для приготовления пищи и стирки, а также синтетическими картинами и мебелью.
А назавтра она уехала – она сама, двое детей, двое негров, которые, прожив четыре года в деревне, все еще оставались городскими неграми, и даже длинный, сверкающий, похожий на катафалк автомобиль, – уехала в Европу для поправления здоровья детей: так, по крайней мере, говорили, хотя никто не знал, кто именно это говорил – ведь этого не говорила ни его, Чарльзова, мать, ни одна из тех пятерых, кто во всем Джефферсоне и во всем округе знал об ее отъезде, ни, разумеется, она сама. Но она уехала, бежала, и, возможно, город думал, будто он знает, от чего. Но чего она искала – если она вообще чего-то искала, – даже его дядя, у которого всегда было что сказать (и слова его довольно часто имели смысл) о том, что не слишком его касалось, даже дядя на сей раз не знал или, во всяком случае, не сказал.
И теперь за происходящим следил не только Джефферсон, но и весь округ, и не только те, кого дядя называл незамужними старыми тетками, которые посредством слухов и предположений (а может, и надежды) следили со своих веранд, но и мужчины тоже, причем не только горожане, которым надо было проехать всего шесть миль, но и фермеры, которым надо было пересечь весь округ.
Они приезжали целыми семьями в запыленных потрепанных автомобилях и фургонах или поодиночке верхом на лошадях и мулах, накануне вечером выпряженных из плуга, останавливались на обочинах дороги и наблюдали, как команды чужаков, оснащенные таким количеством машин, какого хватило бы для постройки шоссе или водохранилища, рыхлили и превращали в газоны старые поля, некогда отведенные под незатейливую прибыльную кукурузу и хлопок, и засевали их кормовыми травами, фунт которых ценится дороже сахара.
Миновав протянувшиеся на много миль выкрашенные белой краской дощатые заборы, они сидели в автомобилях и фургонах или верхом на лошадях и мулах и смотрели на длинные ряды конюшен, построенных из материала намного лучшего, чем большая часть их домов, и оснащенных электрическими лампами, светящимися часами, водопроводом и окнами, забранными сеткой, каких не было в большей части их домов; они возвращались на мулах, может, даже не седлая их, а просто закрепляя петлей на хомуте постромки плуга, чтобы они не волочились по земле, и смотрели, как из одного автофургона за другим выгружают великолепных кровных жеребцов, кобыл и жеребят, чьих предков в пятидесятом колене (как его, Чарльзов, дядя мог бы сказать, но не сказал, ибо именно в тот самый год он перестал много говорить о чем бы то ни было) нагнет на холке приводил в не меньший ужас, чем домашнюю хозяйку волос в масленке.
Он (Гаррисс) перестроил дом. (Он теперь каждую неделю совершал полеты на аэроплане; говорили, будто на этом же аэроплане он перевозит виски с Мексиканского залива в Новый Орлеан.) То есть новый дом должен был занять столько же места, сколько заняли бы четыре старых, сколоченных вместе. Это был просто дом, одноэтажный, обнесенный по фасаду верандой, где старый хозяин сидел, бывало, на своем самодельном кресле со своим пуншем и Катуллом; когда Гаррисс закончил перестройку, дом стал похож на южный особняк из кинофильма, только раз в пять больше и раз в десять южнее.
Потом он начал привозить с собой друзей из Нового Орлеана – на субботу и воскресенье или на более длительное время, и не только на Рождество и летом, а четыре-пять раз в год, словно деньги теперь текли к нему столь быстро и гладко, что ему даже незачем было оставаться там и следить за ними. Иногда сам он даже не приезжал, а только присылал гостей. У него был домоправитель, постоянно живший в доме,. – не тот, старый, первый арендатор, а другой, из Нового Орлеана, которого он называл дворецким. Этот толстый не то итальянец, не то грек в отсутствие гостей разгуливал в белой шелковой рубашке без воротничка и с пистолетом в кармане штанов. Но когда приезжали гости, он брился, надевал ярко-красный галстук-самовяз из мягкого шелка, а в очень холодную погоду еще и пиджак; в Джефферсоне говорили, будто он носит пистолет даже когда подает на стол, хотя никто из жителей города и округа не мог этого видеть, ибо никогда за этим столом не сидел.
Итак, Гаррисс иногда просто посылал в дом и препоручал заботам дворецкого своих друзей – холодных, лощеных, щегольски одетых мужчин и женщин, с виду холостых и незамужних, даже если они время от времени, случалось, и состояли друг с другом в законном браке; эти странные чужеземцы проносились на сверкающих спортивных автомобилях по городу и по дороге, часть которой все еще оставалась простым проселком – что бы он там на одном ее конце ни построил, – по дороге, где в прохладной пыли валялись собаки и куры и бродили без присмотра мулы, телята и свиньи; но вот резкий толчок, летят во все стороны перья; удар, потом лай или визг (а если попадется лошадь, мул, корова или – что хуже всего – кабан, то вмятина на бампере или на крыле), но автомобиль даже не замедляет ход; и в конце концов дворецкий стал держать запас монет, банкнот и подписанных, но не заполненных Гарриссом чеков; он сунул их в холщовый мешок, повесил на внутреннюю ручку парадной двери, и когда к парадному подъезжал фермер, его жена или сын и говорил: «кабан» или «мул» или «курица», дворецкий, даже не выходя из дверей, брал мешок, отсчитывал деньги или заполнял чек, платил им, и они уезжали – это стало дополнительным источником дохода для поселян, живших близ этого шестимильного отрезка дороги, вроде сбора и продажи яиц и ежевики.
Имелась там и площадка для игры в конное поло. Она была расположена возле шоссе; жители города – коммерсанты, адвокаты, помощники шерифа – теперь могли приезжать и смотреть на всадников, даже не выходя из своих автомобилей. И жители сельской местности: фермеры, арендаторы, издольщики и кропперы – люди, которые надевали башмаки лишь в тех случаях, когда неизбежно приходилось шагать по грязи, а верхом на лошадях ездили лишь, чтобы не ходить пешком из одного места в другое; в той же одежде, что надели перед завтраком, они приезжали на лошадях и мулах, выпряженных из плуга, стояли возле изгороди и смотрели – немножко на великолепных лошадей, но больше на костюмы женщин и даже мужчин, которые не могли ездить верхом иначе как в начищенных сапогах и специальных штанах, и на других, тоже в штанах, сапогах и котелках, которые даже и верхом не ездили.
А теперь они приезжали посмотреть и на кое-что еще. Насчет конного поло они слышали и даже поверили, что такая игра существует, еще прежде, чем ее увидели. Но про другое они все еще не верили, даже когда собственными глазами увидели это самое дело и приготовления к нему: как команды работников вырезают целые куски в дорогих дощатых заборах и в наружных, тоже дорогих, проволочных изгородях, а в образовавшиеся бреши вставляют низкие загородки из жердочек и планок чуть потолще спичек, которые не задержали бы даже солидную собаку, не говоря о телке или муле; а в одном месте ставят щит из какого-то материала, обработанного и выкрашенного под каменную стенку (говорили, будто это бумага, хотя жители округа, конечно, этому не верили – не потому, что не верили, будто бумаге можно придать такой вид, а просто потому, что вообще ничему этому не верили; они были убеждены, что эта штука не каменная, именно потому, что она выглядела как каменная, а они были заранее готовы к тому, что им будут врать насчет материала, из которого она на самом деле изготовлена). Эту стенку два человека, взявшись за нее с двух сторон, могли поднять и отодвинуть – все равно как две служанки передвигают парусиновую раскладушку; а в другом месте, посреди пастбища акров этак в сорок, пустого и голого, как бейсбольная площадка, стоял кусок живой изгороди – он рос даже не в земле, а в деревянном ящике наподобие корыта для корма свиней – а за ним находилась специально вырытая яма, заполненная водой, которую качали из дома по оцинкованной трубе длиной чуть ли не в целую милю.
А после того, как это дело произошло раза два или три и молва о нем разнеслась по всему округу, половина его мужского населения приехала посмотреть, как двое мальчишек-негров посыпают бумажными полосками дорожку от одной загородки к другой, а потом мужчины (один в красной куртке и с медным рожком) и женщины в штанах и высоких сапогах ездят по этой дорожке верхом на тысячедолларовых лошадях.
А на следующий год появилась настоящая свора гончих, хороших гончих, слишком хороших, чтобы быть просто собаками, – точно так же, как лошади были слишком хороши, чтобы быть просто лошадьми, слишком чисты и как-то слишком необычны – они тоже жили в защищенных от непогоды клетках с водопроводом, а ухаживать за ними были приставлены специальные люда – точь-в-точь как и за лошадьми, у которых тоже все это было. И теперь вместо двух негров с обрезками бумаги в двух длинных мешках для сбора хлопка один-единственный негр ехал верхом на муле, волоча по земле на канате джутовый мешок, в котором было что-то запрятано; он старательно подтаскивал мешок к каждой загородке, слезал с мула, привязывал его к чему попало, брал мешок, старательно втаскивал его на загородку, переваливал через нее, потом снова садился на мула и волочил мешок к следующей загородке, и таким манером объезжал весь длинный петляющий круг вплоть до исходной точки на том пастбище, что находилось ближе всего к шоссе и к забору, где стояли привязанные мулы с нагнетами на холках и рабочие лошади и приехавшие на них неподвижные мужчины в комбинезонах.
Затем негр останавливал мула и сидел на нем, вращая белками, а кто-нибудь из зрителей, кто уже видел все это раньше, во главе с шестью, двенадцатью или пятнадцатью другими, которые еще не видели, перелезал через забор и, даже не глядя на негра, проходил мимо мула, шел дальше, поднимал с земли мешок, а эти шесть, или двенадцать, или пятнадцать поодиночке подходили, нагибались и нюхали его. Потом он клал мешок обратно на землю, и опять без единого слова или звука все они шли обратно, перелезали через забор и опять становились вдоль него – мужчины, способные ночь напролет просидеть на корточках вокруг тлеющего пня или бревна с кувшином кукурузной водки и по голосу угадать и назвать имена гончих, что носятся и лают где-то за целую милю от них; они стояли и не только смотрели на лошадей, которым не надо мчаться за добычей, но также слушали яростный лай собак, которые преследуют даже не призрак, а химеру; стояли, облокотись о белый забор, неподвижные, сдержанные, с сардоническим выражением на лицах, жевали табак и отплевывались.
И каждое Рождество и Новый год его, Чарльзова, мать и остальные пять бывших подруг ее юности получали поздравительные открытки. На марках стоял штемпель Рима, Лондона, Парижа, Вены или Каира, но открытки были куплены не там. Они вообще не были куплены где-либо в течение последних пяти или десяти лет, потому что их выбирали, приобретали и складывали во времена более спокойные, чем нынешние, когда дома, в которых люда рождались, даже не всегда знали, что в них не хватает электрических проводов и водопроводных труб.
От этих открыток даже пахло стариной. Теперь существовали не только быстроходные суда, но и авиапочта через океан, и он, Чарльз, думал о мешках с письмами из всех столиц мира, с письмами, которые были проштемпелеваны сегодня, а доставлены, прочитаны и забыты чуть ли не на следующий день, и о затесавшихся среда них стародавних открытках давних времен, которые потихоньку шептали о старых чувствах и старых мыслях, невосприимчивых к чужеземным именам и языкам, словно миссис Гаррисс привезла их с собой через океан, вынув из ящика секретера в старом доме, которого все эти пять или десять лет уже не существовало.
А в промежутках между открытками, в дай рождения его матери и остальной пятерки приходили письма, которые не изменились даже за эти десять лет, письма, постоянные в своих чувствах, выражениях и сомнительном правописании, выведенные рукою шестнадцатилетней девочки, которая по-прежнему рассказывала о старых домашних делах в тех же старых провинциальных выражениях, словно за десять лет, проведенных в пышном блеске света, она не увидела ничего такого, чего не привезла бы с собой, – рассказывала не об именах и городах, а о здоровье и занятиях детей, не о посланниках, миллионерах и пребывающих в изгнании монархах, а о семьях швейцаров и официантов, которые были добры или хотя бы внимательны к ней и к детям, и о почтальонах, приносивших письма из дома; она часто забывала упомянуть, а тем более подчеркнуть названия дорогих фешенебельных школ, в которых учились ее дети, словно даже не знала, что они дорогие и фешенебельные. Так что молчаливость вовсе не была чем-то новым; уже тогда он видел, как дядя сидит и держит в руке одно из писем, полученных его, Чарльзовой, матерью, – неисправимый холостяк, единственный раз в жизни столкнувшийся с предметом, о котором ему явно нечего сказать, точно так же, как теперь, десять лет спустя, он сидел здесь за шахматной доской, все еще безгласный и, конечно, все еще молчаливый.
Однако ни дядя, ни кто другой не мог бы сказать, что жизненный путь Гаррисса перевернут вверх тормашками. А он, Гаррисс, продвигался по этому пути, и притом быстро: ты женишься на девушке, девочке вдвое моложе себя, за десять лет в десять раз увеличиваешь ее приданое, а потом в одно прекрасное утро секретарь твоего адвоката звонит твоей жене по междугородному телефону в Европу и сообщает, что ты сию минуту умер, сидя за своим письменным столом.
Не исключено, что он и вправду умер за письменным столом; не исключено даже, что этот стол стоял в конторе, как подразумевалось в сообщении. Ведь человека можно застрелить за столом в конторе с таким же успехом, как и в любом другом месте. И не исключено, что он и вправду просто умер, сидя за столом, – ведь к тому времени сухой закон даже на законном основании скончался, а когда сухой закон отменили, Гаррисс уже разбогател, и после того, как адвокат с десятком расфранченных лакеев с пистолетами под мышкой привез его домой и поставил гроб для прощания в его роскошных родовых апартаментах десяти лет от роду, гроб больше не открывали, а что до лакеев, то в каждой комнате первого этажа размещалось по лакею с пистолетом, так что теперь любой житель Джефферсона, если ему заблагорассудится, мог пройти мимо гроба, украшенного цветами, среди которых лежала большая белая карточка с отпечатанной рукописным шрифтом цифрой $ 5500, а также осмотреть дом изнутри, прежде чем адвокат вместе с лакеями увез его обратно в Новый Орлеан или, во всяком случае, куда-то прочь отсюда и похоронил.