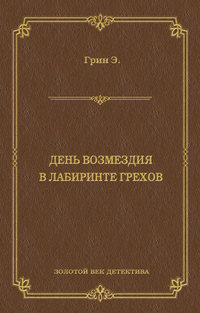
День возмездия. В лабиринте грехов (сборник)

Энн Кэтрин Грин
День возмездия. В лабиринте грехов
© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2009
© ООО «РИЦ Литература», 2009
* * *День возмездия
Книга первая
Жизнь или смерть
Глава I
Роковое послание
Вечером 13 июля 1863 года два человека – один в Вашингтоне, другой в Буффало – оставили свои жилища при обстоятельствах до поразительности между собою сходных.
Как одному из них с утренней почтой пришло письмо, так точно и другому, и оба они полученные ими послания тотчас же уничтожили. В продолжение целого дня и тот и другой испытывали сильнейшее беспокойство, но высшей степени волнение их достигло, когда они прощались со своими близкими, что едва ли могло быть объяснено только неожиданностью их приглашения в Нью-Йорк по делам. Трудно было предположить также, что причиной такого сильного возбуждения было то обстоятельство, что в этом городе бушевало тогда восстание, хотя оно, несомненно, могло угрожать жизни и благополучию каждого мирного гражданина.
Человек из Вашингтона, Сэмюел Уайт, бывший раньше маклером, теперь начинал карьеру политического деятеля. По слухам, он располагал довольно значительным состоянием, но не позволял себе ни малейшей роскоши, а, наоборот, жил чрезвычайно тихо и уединенно, несмотря на то что по натуре он отличался чрезвычайным честолюбием и склонностью к блеску. Конечно, в беспокойное время междоусобной войны было бы вообще безрассудно выставлять напоказ свои богатства, но простота жизни Уайта была слишком велика, чтобы ее можно было объяснить только тем тяжелым положением, в котором находилась его родная страна. Многие подозревали, что существуют какие-то тайные причины, заставляющие его вести такой образ жизни. Его жена была болезненной женщиной, но не чуждалась общества; тесные комнаты и слишком скромная обстановка совершенно не соответствовали ее вкусам. Чрезмерная экономия в воспитании и образовании их единственного ребенка тоже едва ли могла считаться желательной.
Уайт не был скупым, а между тем копил деньги и держал все свои сбережения в банке, отказывая своим близким в удобствах и удовольствиях, устраняясь от широкой общественной деятельности, к которой он, казалось, был предназначен и по своим природным дарованиям, и по своим наклонностям.
Что заставляло его так поступать? Вопрос этот часто обсуждался его знакомыми, но никто не мог дать на него удовлетворительного ответа. Однажды заговорила с ним об этом его жена, но во взгляде, который он бросил на нее, было столько душевной муки, что она поспешила, в знак полного доверия к нему, поцелуем положить конец этой тягостной сцены. Но она не забыла ее и когда 12 июля она снова увидела то же выражение на лице мужа, когда она почувствовала, в какой душевной мучительной тревоге находился он целый день, ее охватило тяжелое предчувствие, что ему грозит большое несчастье. Возможность того, что ее муж примет деятельное участие в войне и даже сам поведет отряд на поле сражения, не раз представлялась ей и раньше. Мысль о разлуке и об опасностях, которые могли ему угрожать, заставляла трепетать ее любящее сердце, но страх, испытываемый ею теперь, был совсем другого рода. Это был безотчетный ужас перед чем-то неведомым, что происходило в душе ее мужа, до сих пор, казалось, бывшей для нее открытой книгой. Чего она, собственно, боялась, она сама не знала, но ее тревога была так сильна, что невольно она проследила мысленно всю свою жизнь, желая найти в прошлом ответ на то, что заставляло замирать ее сердце. Сэмюела Уайта она знала с детства. Вместе росли они в маленьком городке и он был товарищем ее игр еще тогда, когда они и сами не могли подозревать, что со временем им суждено полюбить друг друга. Когда молодой человек уехал искать счастья на Западе, она строила планы будущего, в которых не последнее место занимала мечта о безмятежной семейной жизни с ним. По его возвращении она не спросила даже, удалось ли ему разбогатеть или хотя бы есть ли у него какое-нибудь имущество. Она встретила его после долгой разлуки радостным взглядом, и первые слова, с которыми она обратилась к нему, звучали как привет любви. Его сердце также принадлежало ей, она это чувствовала, и, однако, несмотря на это, свидание их отличалось странным характером – его как будто смущало все, что могло служить доказательством неизменности ее любви. Эта застенчивость, как она называла, не умея найти другого, более подходящего названия, и необъяснимое поведение жениха поражали ее и тогда, но теперь, обсуждая снова прошлое, она пришла к заключению, что он как бы боялся связать себя обещанием жениться на ней. Тем не менее брак их состоялся, и он был верным, любящим мужем. Никогда она не имела повода ревновать его, хотя он был красив и пользовался успехом у женщин. Одно только тяжелое разочарование пришлось ей испытать со временем: ее надеждам на то, что муж ее выдвинется на поприще общественной деятельности и займет соответствующее своим дарованиям место, не суждено было сбыться. Как гордилась бы она его успехами! Ей легче было бы переносить страдания, причиняемые ей постепенно развивавшейся болезнью; для нее было бы утешением видеть его окруженным почетом и сознавать, что он играет далеко не последнюю роль в государственной жизни. Что он достоин был занять выдающееся место среди тех, кто призван руководить народными массами, в этом она никогда не сомневалась. Он обладал широким развитием; работа для него являлась наслаждением; казалось, он родился, чтобы занимать выдающееся положение. И все-таки он оставался в безвестности и даже сам старался, чтобы о его работах знал возможно меньший круг лиц, как будто он стыдился своей деятельности.
Такие мысли приходили в голову миссис Уайт в тот мучительный для нее день. Но она не нашла разгадки тайны, которая окружала ее и грозила разрушить ее спокойную жизнь.
Из одиннадцати лет супружества пять она с мужем провела в Нью-Йорке, где Уайт был маклером; потом они переселились в Вашингтон, и там он начал принимать участие в политической жизни страны, но в полной тайне, будто скрываясь, так что, хотя его влияние на общественные дела уже становилось заметным, имя его упоминалось редко, и вообще он избегал выступать публично. С некоторого времени он даже стал реже выходить из дому. Порой в его глазах являлось выражение тайного страха, в особенности оно было заметно при получении им письма 13 июля.
Достаточно было бы ей протянуть руку к этой записке, чтобы получить разъяснение всех загадок, над которыми она до сих пор напрасно ломала себе голову. Но в первую минуту она колебалась, а потом было уже поздно – муж разорвал письмо на мелкие кусочки и с выражением, в котором чувствовалась беспомощность, устремил взор в пространство. Когда его потухшие глаза встретили ее вопросительный взгляд, он протянул к ней руку, словно умоляя ее молчать, и шатаясь вышел из комнаты. Почти час спустя он вернулся, уже овладев собой, и сказал ей, что получил письмо, приглашающее его немедленно явиться в Нью-Йорк. Перед отъездом ему хотелось видеть своего сына Стенхопа, и поэтому он просил скорее послать за ним. После этого ее тревога еще более возросла. Стенхоп находился в школе в Джорджтауне, на расстоянии нескольких миль от Вашингтона. Не считал ли муж опасным путешествие в Нью-Йорк, где тогда бушевало восстание черни, и не хотел ли проститься с мальчиком? Но остановиться на таком предположении для нее, казалось, не было возможным, так как ей были известны решительность и сила характера Уайта.
В течение дня ей пришлось видеть его очень мало, так как он большую часть времени провел за письменным столом. Как ни принуждал он себя казаться спокойным в ее присутствии, на лице его ясно отражалась глубокая скорбь. Она не могла выносить более такого напряженного состояния.
– Сэмюел, – воскликнула она голосом, в котором звучали одновременно и страдание и мольба, и обняла его, – скажи, что так мучит тебя? Что значит твой внезапный отъезд? Призывают ли тебя государственные дела или это твое личное дело? Но в таком случае ты не должен был бы скрывать его от меня!
Он помолчал с минуту и потом сказал тоном, не допускавшим дальнейших расспросов:
– Мне нужно поехать в Нью-Йорк по частному делу. Если бы была какая-нибудь необходимость познакомить тебя с ним, я бы это сделал.
Смысл его слов звучал обидно, но, произнося их, он горячо обнял ее.
– Не забывай, – прибавил он с волнением, – что я всегда любил тебя.
И не успела она еще прийти в себя от изумления, как он оставил комнату.
«Я подожду приезда Стенхопа, – думала она. – Он наверняка узнает, что так мучит отца и почему он именно теперь собирается в Нью-Йорк».
Но с приездом Стенхопа тайна не только не раскрылась, а еще более затемнилась.
Вместо того чтобы позвать его к себе и приласкать, Уайт, казалось, боялся увидеть своего ребенка. Только почти пред отъездом он вышел из своего рабочего кабинета и взял сына на колени. Он пробовал заговорить, но голос его оборвался. Он на мгновение склонил свою голову, потом решительно отстранил ребенка.
– Мои дела будут окончены завтра вечером, – сказал он жене, которая протянула к нему руки, словно желая удержать его. Голос его звучал странно и неестественно. – Послезавтра ты услышишь обо мне, а еще через день я, вероятно, снова буду здесь.
Он действительно вернулся, но не совсем так, как предполагал в ту минуту.
Лемуел Филипс из Буффало, которого полученное им в тот же день письмо приглашало в Нью-Йорк, был человеком совершенно не похожим на Уайта из Вашингтона. Он был строен и худощав, с тонкими чертами лица. Трудно решить, были ли тому виною добрые или злые силы, таившиеся в нем, но он невольно привлекал к себе общее внимание. Ему шел сороковой год, но при встрече с ним на улице, когда он шел сгорбившись, легко можно было дать ему лет на двадцать больше. Его живые глаза, выразительный рот и быстрые движения показывали, однако, что он был еще полон сил и энергии. Ходил он всегда останавливаясь на каждом шагу, словно человек, боящийся преследования и каждую минуту готовый обратиться в бегство. Такое впечатление, по крайней мере, он производил на окружающих. Время от времени он украдкой оглядывался, и это как бы подтверждало догадку, что он чего-то боится. Если бы он не был одним из самых уважаемых граждан, его поведение могло бы навлечь на него много неприятностей, а теперь он только слыл за чудака, и единственным стеснением, которое ему приходилось испытывать, было то, что порой мальчишки на улице передразнивали его походку.
В скромном домике в западной части города он жил как человек, посвятивший себя научным занятиям. Какими науками он занимался – знали немногие, да никто особенно этим и не интересовался. В денежных средствах он, по-видимому, не нуждался, ни в чем себе не отказывал и тайно жертвовал на многие благотворительные учреждения. В общественной жизни он не принимал участия, в многолюдных собраниях и вообще в тех местах, где можно было ожидать скопления большого числа людей, он бывал так же редко, как и Уайт из Вашингтона. Вообще большую часть своего времени он проводил в четырех стенах. Но даже и там его случайных посетителей поражало, что он постоянно с беспокойством оглядывался то в одну, то в другую сторону, словно боялся появления на пороге непрошеного пришельца. Это напряженное внимание сделалось как бы его второй натурой. Все домашние знали его привычки и считались с ними. Даже его маленькая миловидная дочка никогда не вбегала в комнату, не крикнув предварительно, словно успокаивая его: «Это я, папа!»
В Буффало он поселился за три года до событий, о которых идет речь. Сначала он жил один, потом откуда-то привезли к нему его ребенка, который был тогда еще на руках у няни. На задаваемые ему вопросы Филипс говорил, что пять месяцев назад овдовел, но о своей покойной жене и прежнем месте жительства не рассказывал ничего. Скоро он успел завоевать в городе общее доверие. Трогательная любовь его к своему ребенку и тихая жизнь ученого говорили в его пользу.
Для более внимательного наблюдателя многое в нем показалось бы непонятным. У человека, который всего пугается и боится завернуть за угол улицы, должна быть на душе какая-то тайна, которая его тревожит. И если такая тревога в течение дня доводит его до состояния, граничащего с ужасом, то нетрудно догадаться, что в его прошлом кроется что-то таинственное, разоблачения чего он страшится.
12 июля в продолжение всего дня он испытывал тоску и ужас, не поддающиеся описанию. Поздно вечером, вместо того чтобы лечь в постель, он отправился в свой кабинет, где целую ночь просматривал и приводил в порядок бумаги. Когда наступило утро и пришел почтальон, из-за нервного возбуждения он едва мог взять из рук служанки письмо, которое та ему принесла. Дрожа, он вскрыл конверт, прочел единственную строчку, заключавшуюся в письме, и подавленный крик страдания вырвался из его груди.
Когда час спустя его дочка вбежала в столовую и увидала отца таким печальным, она влезла к нему на колени, обвила ему шею руками и осыпала его поцелуями. Он быстро поставил ее на землю, словно не мог выносить ее ласк, и поспешил на кухню, где нашел преданную Абигейл Симмонс за работой.
– Вы обещали мне всегда любить моего ребенка! – воскликнул он, схватив ее за плечо. – Вы не забыли этого?
Абигейл посмотрела на него удивленно.
– Как же я могу иначе относиться к такой милой малютке?
– Но если бы она осталась на свете одна? Если бы со мной что-нибудь случилось?..
– Что же может случиться? Ведь вы не больны, господин?
– Нет, но… я уезжаю в Нью-Йорк, – произнес он, запинаясь. – Это моя первая разлука с ребенком, и я боюсь какого-нибудь несчастья. Могу ли я быть уверенным, что вы окружите ее материнскими заботами, если бы я не вернулся?
– Я буду беречь ее как зеницу ока! – отозвалась добрая женщина. – Что же у меня есть более дорогого на свете?
Он вздохнул с облегчением.
– Вы, может быть, боитесь восстания, – продолжала Абигейл, смотря на него проницательным взглядом. – Этого, могу себе представить, я бы сама боялась.
С минуту он смотрел на нее пристально, будто не понимая ее слов, потом быстро вернулся в комнату, где уже сидела за столом малютка. Все в ней дышало здоровьем и детским весельем; она качала головкой, отчего развевались ее золотистые локоны, и ее беззаботному лепету, казалось, не будет конца. При виде дорогого личика он почувствовал, что его страдания еще усилились. Девочка продолжала болтать, не замечая, какая мертвенная бледность покрыла щеки ее отца. Казалось, в уме его созрело внезапно ужасное решение. Он подошел к своему письменному столу, открыл один из маленьких боковых ящиков и вынул оттуда флакончик.
– Иди же завтракать, папа! – закричала девочка. – Не могу я сидеть здесь совсем одна!
При звуке ее голоса он невольно вздрогнул, потом подошел и встал за ее стулом, потому что не мог смотреть в ее невинные карие глазки. Его губы были пепельно-бледны, большие капли пота струились по лбу.
– Дай мне свою чашечку! – хрипло прошептал он.
Она посмотрела на него изумленно, когда он взял чашку и наклонил над ней флакончик. Вдруг он пронзительно вскрикнул и бросил чашку в самый дальний угол комнаты.
– Я не могу! – простонал он и, громко рыдая, опустился на стул, не пытаясь больше сдерживаться.
Испуганная малютка соскользнула со своего стула, посмотрела с минуту на отца широко раскрытыми глазами и потом быстро убежала к Абигейл.
Она, очевидно, и не почувствовала, как близко от нее пролетел ангел смерти. Не далее как минут через пять отец снова мог слышать ее звонкий смех и радостные крики, в которых не было и следа пережитого страха.
Глава II
14 июля 1863 года
Пробило семь часов вечера, на улицах было еще светло, но, несмотря на это, многие дома в Нью-Йорке были заперты будто ночью. Особенно это бросалось в глаза на Эмити-стрит. В той части города, в которой она находится, и главным образом в старых домах между Бродвеем и Шестой авеню, находили себе убежище многие негры, а везде, где были черные слуги, царил тогда страх.
Только один из этих домов, хотя также наглухо запертый, был ярко освещен, что возбуждало немалое удивление соседей. Незадолго до этого он еще стоял пустым, и никто ничего не знал о его обитателях; видели только, что высокий негр зажигал газ и закрывал ставни. Дом этот был старинным зданием, какие часто встречаются в этом районе. Низкие ступени, ведущие к дверям, были огорожены странной формы чугунными перилами, окна жилых комнат выходили на балкон, и через полукруглое стекло над входной дверью, как бы приглашая прохожего зайти, виднелся свет лампы, горевшей в прихожей.
Однако всякого рода догадки относительно обитателей стоявшего раньше пустым дома, равно как и многие другие, более важные вещи, были забыты, когда на Эмити-стрит распространилось всех повергшее в ужас известие, что началось восстание черни. Уже издали слышались зловещие звуки: топот бесчисленных ног, неистовый гул голосов и рев разъяренной толпы, гораздо более страшный, чем шум разбушевавшегося моря или завывание диких зверей. Однако пока все это доносилось только издали, сама же улица оставалась безлюдной и пустынной.
Вдруг из-за угла показались два человека, оба они направлялись к дому № 31. В наружности одного из них, красивого мужчины с белокурыми усами, было что-то привлекательное. Он шел быстро, печальные глаза его смотрели прямо вперед. Другой был худощав, сгорблен; выражение лица казалось до того необыкновенным, что тот, кому довелось бы хоть раз увидеть его, едва ли бы его забыл. Оба ускорили шаги, словно их гнала какая-то непреодолимая высшая сила. Они заметили друг друга, казалось, только тогда, когда остановились перед дверью дома. Они оба вздрогнули. Каждый из них, казалось, собирался что-то сказать, но ни один не мог произнести ни звука. Они обменялись безмолвным поклоном, как люди, соединенные одним общим несчастьем, потом, бросив взгляд на номер дома, поднялись по немногим ступеням лестницы, причем тот, который держался прямо, уступал дорогу своему спутнику, очевидно, старшему. Нерешительно тот и другой протянули руку к звонку.
– Вы очень изменились, – тихо заметил при этом младший старшему.
Его товарищ молчал, дрожа всем телом.
– У меня меньше мужества, чем у вас, – пробормотал он наконец.
Первый вздрогнул и сильно дернул звонок.
– Хоть бы скорее все это кончилось! – воскликнул он и тотчас же прибавил поспешно, услышав за дверями шаги: – А вы сделали все, чтобы сохранить тайну?
– Прошу войти, господа, – прозвучал слащавый голос. – Вы из Вашингтона, не правда ли? А вы из Буффало? Прекрасно, мой господин ждет вас.
В открытых дверях стоял, вежливо улыбаясь, высокий негр, тот самый, загадочная личность которого заставляла соседей в течение целых суток напрасно ломать себе голову.
При этих словах пришедшие невольно отступили. Оба они оглянулись и бросили еще один долгий взгляд на окружающее, как бы прощаясь со светом и со всем, что он сулит прекрасного живущим.
Они, казалось, не слышали топота и шума приближавшейся толпы. Более сильный страх сковывал их сердца, и не здесь, на улице, а там, в доме, ожидала их опасность, перед которой они трепетали.
Когда оба гостя вошли, негр запер за ними двери. Он оказался услужливым и хорошо вымуштрованным слугой.
– Мой господин сейчас придет сюда, – уверял он.
Взяв у них из рук шляпы, он ввел их в большую приемную направо и бесшумно удалился.
Вошедшие остановились около дверей комнаты и окинули ее тоскливым взором. Прежде всего им бросился в глаза богато накрытый стол.
Высокий, в котором тотчас же можно было узнать Уайта, сделал шаг вперед.
– Три, – сказал он с странным выражением, указывая на стулья у стола.
Его спутник, очень походивший на Филипса из Буффало, также приблизился и стал рассматривать отдельные приборы на столе удивленным и подозрительным взглядом.
– Он хочет, чтобы мы с ним обедали, – пробормотал он.
Уайт остановил взгляд на бокалах, стоявших у каждого прибора.
– Обед из многих блюд, – заметил он.
– Эта комедия мне противна! – воскликнул Филипс. – Я предпочел бы найти здесь только два…
Он запнулся и, быстро протянув руку, снял крышку с одного из блюд, стоявшего против тарелки.
– Я так и думал, – произнес он, бледнея и заикаясь.
Уайт, в свою очередь, поднял крышку с другого блюда и, бросив на него быстрый взгляд, снова прикрыл его.
– Этот человек действительно вздумал разыграть комедию, – сказал он и после некоторого молчания прибавил: – Посмотрите, только два покрытых блюда.
– Положим этому конец, – сказал Филипс, дико озираясь, и схватил с первого блюда маленький заряженный пистолет.
Товарищ его не соглашался.
– Нет, – произнес он твердо, – в письме, которое я получил, стояло восемь часов. Осталось еще пятнадцать минут.
Он указал на столовые часы, стоявше на камине.
– Пятнадцать минут!.. Целая вечность!.. – простонал Филипс, однако положил пистолет на прежнее место.
Уайт прикрыл также и это блюдо.
Воцарившееся вслед за тем тяжелое молчание было прервано приходом негра, который принес несколько бутылок шампанского. Уайта раздражали его почтительный вид, его невозмутимое спокойствие.
– Вы накрывали здесь стол? – спросил он резко.
– Да, мистер.
– И никто, кроме вас, в это не вмешивался?
– Никто, мистер.
Уайт больше не расспрашивал. Негр сохранил свой бесстрастный вид и спокойно перенес направленный на него испытующий взор.
– Мой господин должен сейчас явиться, – повторил он, посмотрев на часы, и тотчас же удалился.
Филипс во время этого короткого разговора подошел к камину и остановился.
– Вы хотели знать, – начал он торопливо, – имею ли я семью? Да, у меня есть ребенок, маленькая девочка, лишившаяся матери. Ради нее…
Уайт сделал ему знак рукой, чтобы он не продолжал. Потом он вынул из бокового кармана фотографию.
– А у меня больная жена и…
Он протянул Филипсу карточку, которую тот схватил.
– Мальчик! – воскликнул он дрожащим голосом.
Оба вздрогнули, словно пораженные электрическим ударом.
Едва слышно Уайт прошептал:
– Ему только десять лет! О, я понимаю его и поэтому безропотно отдаюсь своей судьбе.
Не отрываясь смотрел Филипс на портрет мальчика, казалось, имевший для него неотразимую, притягательную силу.
– Как он хорош!.. Какие благородные черты лица! – восторженно восклицал он.
Глубокий вздох вырвался из груди отца.
– Подобного ему нет на свете, – сказал он, беря портрет обратно, но сам не решился взглянуть на дорогое изображение и спрятал его на груди.
Между тем голоса на улице раздавались все громче, шум достиг такой степени, что давно бы должен был обратить на себя внимание разговаривавших, если бы они не были поглощены другим.
– Что там такое? – спросил наконец удивленный Филипс.
В эту минуту в комнату снова вошел негр.
– Не беспокойтесь, господа, – заметил он. – На улицах небольшое волнение. В настоящее время чернь возбуждена против чернокожих и, вероятно, узнала, что в этом доме есть негр.
Пораженные его полным хладнокровием перед лицом угрожавшей ему опасности, Уайт и Филипс переглянулись.
– Может быть, мятежники придут сюда? – воскликнул последний. – Не замышляют ли они чего-нибудь?
– На углу живут еще две семьи, у которых есть черные слуги, – ответил слуга с тем же невозмутимым спокойствием. – Значит, еще два раза им придется выдержать борьбу. Если в дело вовремя вмешается полиция, то она может затянуться настолько, чтобы дать вам возможность окончить ваш обед, господа.
При последних словах Уайт покраснел от гнева. Филипс, напротив, казалось, ожил, как будто ему снова блеснул луч надежды.
– Разве вы не боитесь? – спросил он. – Говорят, что мятежники не останавливаются ни перед каким зверством.
– Только одно заботит меня, – прозвучал ответ слуги, – мой господин хотел вернуться домой по Шестой авеню. Он легко может попасть в руки черни и не прийти сюда к назначенному времени.
По-видимому, не обращая внимания на то, какое сильное волнение вызвали эти слова в обоих посетителях, негр продолжал:
– Здесь, внизу, я не могу открыть ставень, но если вы желаете, то я посмотрю из верхнего этажа.
Он оставил комнату.
– Это не обыкновенный слуга, – сказал Уайт мрачным тоном, когда оба снова остались одни. – Орудие так же опасно, как и рука. Если тот, кого мы боимся, не вернется, то всегда против нас будет свидетель.
– Чернь ревет: смерть всем неграм! Если что-нибудь произойдете – ведь остается всего пять минут, – это может быть нашим спасением!
В словах Филипса звучала возродившаяся надежда, он совершенно изменился.