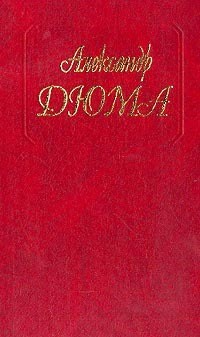
Белые и синие
– Вы можете одновременно молиться за мою мать, милая госпожа Тейч, – сказал юноша, утирая слезу, – ведь моя сестра Гортензия пишет, что наша матушка была арестована и отправлена в тюрьму – в монастырь кармелиток; я получил письмо сегодня утром.
– Мой бедный друг! – вскричал Шарль.
– Сколько же годочков вашей сестре? – спросила г-жа Тейч.
– Десять лет.
– Бедное дитя! Пусть ее скорее пришлют к вам, мы о ней позаботимся как следует, не может же она в таком возрасте оставаться одна в Париже.
– Спасибо госпожа Тейч, спасибо, но, к счастью, она не будет одна: она у моей бабушки, в нашем замке Ферте-Богарне. Ну вот, я заставил всех загрустить, а ведь я поклялся ни с кем не делиться своей новой бедой.
– Господин Эжен, – сказал Шарль, – с такими намерениями не заводят друзей. Что ж, в наказание вы будете говорить за завтраком лишь об отце, матери и сестре.
Мальчики уселись за стол, а г-жа Тейч осталась, чтобы им прислуживать. Задача, поставленная перед Эженом, была ему не в тягость; он поведал своему юному другу, что является последним отпрыском благородного рода из Орлеане, а также о том, что один из его предков, Гийом де Богарне, в 1398 году женился на Маргарите де Бурж, а другой, Жан де Богарне, был свидетелем на суде над Орлеанской Девой; в 1764 году их поместье ла Ферте-Орен получило статус маркизата и стало называться ла Ферте-Богарне; его дядя Франсуа, эмигрировавший в 1790 году, стал майором в армии принца де Конде и предложил себя председателю Конвента для защиты короля в суде. Что касается его отца, который в настоящее время арестован и обвиняется в сговоре с врагом, то он родился на острове Мартиника и там же сочетался браком с мадемуазель Таше де ла Пажери, а затем приехал с ней во Францию, где был благосклонно принят при дворе; направленный в Генеральные штаты знатью сенешальства Блуа, он одним из первых в ночь 4 августа поддержал отмену всех титулов и привилегий.
Избранный секретарем Национального собрания и членом комитета по военным делам, он во время подготовки к празднику Федерации принимал деятельное участие в благоустройстве Марсова поля и вдвоем с аббатом Сиейесом возил землю в тележке. Наконец он был отправлен в Северную армию в качестве генерал-адъютанта, командовал войсками в Суасоне, отказался возглавить военное министерство и принял роковое назначение командующим Рейнской армией; всем известно, что за этим последовало.
Когда речь зашла о доброте, изяществе и красоте его матери, юноша стал особенно красноречив и дал волю своей беспредельной сыновней любви; теперь, когда ему следовало работать не только ради маркиза де Богарне, но и ради своей милой матушки Жозефины, он собирался трудиться с куда большим рвением, чем прежде.
Шарль, также питавший к родителям самую нежную любовь, зачарованно слушал своего юного товарища, без устали осыпая его вопросами о матери и сестре.
Внезапно послышались приглушенные раскаты взрыва, от которого задрожали все оконные стекла гостиницы «У фонаря», а за ним последовали другие взрывы.
– Это пушка! Пушка! – вскричал Эжен, более привычный, чем его юный друг, к звукам войны.
Вскочив со стула, он воскликнул:
– Вставайте! Вставайте! Началось наступление на город!
В самом деле, с разных сторон доносился грохот барабанов, бивших общий сбор.
Мальчики бросились к двери вслед за г-жой Тейч. В городе уже царила суматоха: во все стороны скакали кавалеристы в разноцветных мундирах, очевидно доставлявшие приказы, а простолюдины, вооруженные копьями, саблями и пистолетами, бежали толпой к Агноским воротам с криком:
– Патриоты, к оружию! Враг наступает!
Приглушенный грохот пушечных выстрелов, возобновляющийся каждую минуту, красноречивее, чем голоса людей, извещал об опасности и призывал граждан города к его защите.
– Пойдем на крепостной вал, – сказал Эжен, бросаясь на улицу, – если даже нам не придется сражаться, мы, по крайней мере, увидим битву.
Шарль устремился за своим товарищем, который ориентировался в городе лучше, чем он, и вел его к Агноским воротам самым коротким путем.
Пробегая мимо оружейной лавки, Эжен резко остановился.
– Постой, – сказал он, – мне пришла в голову одна мысль!
Он вошел в лавку и спросил у хозяина:
– У вас найдется хороший карабин?
– Да, – ответил тот, – но он дорого стоит!
– Сколько?
– Двести ливров.
Юноша достал из кармана пачку ассигнатов и бросил ее на прилавок.
– У вас есть пули соответствующего калибра и порох?
– Да.
– Давайте.
Торговец оружием выбрал для него примерно двадцать пуль, входивших в ружье с усилием, лишь при помощи шомпола, отвесил фунт пороху и высыпал его в пороховницу, в то время как Эжен отсчитывал ему двести ливров ассигнатами, а затем – еще шесть ливров за порох и пули.
– Ты умеешь обращаться с ружьем? – спросил Эжен у Шарля.
– Увы! Нет, – смущенно ответил тот, устыдившись своей беспомощности.
– Не беда, – со смехом отозвался Эжен, – я буду драться за двоих.
И он снова устремился к опасному месту, заряжая на ходу ружье.
Город являл собой любопытное зрелище: каждый его житель, независимо от своих убеждений, можно сказать, ринулся навстречу врагу; из каждой двери выскакивали вооруженные мужчины; в ответ на магический возглас «Враги! Враги!» защитники вырастали словно из-под земли.
На подступах к воротам толпа была такой густой, что Эжен понял: чтобы добраться до крепостной стены, следовало сделать крюк; он бросился вправо и вскоре оказался вместе со своим юным другом в той части крепостного вала, которая выходила в сторону Шильтигема.
В этом месте собралось множество патриотов, стрелявших по врагу.
Эжен не без труда протиснулся в первый ряд защитников города; Шарль не отставал от него ни на шаг.
На дороге и равнине, ставшими полем битвы, царила чудовищная неразбериха. Французы и австрийцы сражались, перемешавшись между собой, с яростью, не поддающейся описанию. Неприятель, преследовавший французский отряд, который, казалось, был охвачен таким паническим ужасом, что древние несомненно приписали бы его гневу богов, едва не ворвался в город вместе с беглецами; ворота, закрывшиеся вовремя, оставили часть наших снаружи, и те, оказавшись в траншеях, принялись неистово отбиваться от наступавших, в то время как с вершины крепостной стены грохотала пушка и гремели выстрелы.
– Ах! – воскликнул Эжен, радостно потрясая карабином, – я был уверен, что битва – это прекрасное зрелище!
В тот миг, когда он произносил эти слова, пуля, просвистевшая между ним и Шарлем, срезала прядь его волос, пробила его шляпу и поразила одного из находившихся позади него патриотов, который упал замертво.
Поток воздуха от пролетевшей пули хлестнул мальчиков по лицу.
– О! Я знаю, кто стрелял, я его видел, видел! – вскричал Шарль.
– Кто же это? Кто? – вопрошал Эжен.
– Смотри, вон тот, что сейчас вытаскивает патрон, собираясь перезарядить карабин.
– Постой! Постой! Ты уверен, не так ли?
– Ей-Богу!
– Ну, тогда смотри!
Юноша выстрелил, и драгун подскочил в седле, а его лошадь отпрянула в сторону: очевидно, непроизвольным движением он вонзил шпоры в бока скакуна.
– Попал! Попал! – воскликнул Эжен.
В самом деле, драгун пытался прицепить свое ружье за порт-мушкетон, но его усилия были тщетны, и вскоре он выронил оружие; приложив одну руку к боку и стараясь направлять коня другой рукой, он стремился выбраться из гущи боя, но через несколько мгновений качнулся назад и, вылетев из седла, упал головой вниз.
Одна нога драгуна зацепилась за стремя; испуганная лошадь понеслась, увлекая его за собой. Какой-то миг юноши смотрели ей вслед, но вскоре конь и всадник скрылись в дыму сражения.
Тут ворота распахнулись: гарнизон вышел из города под бой барабанов и звуки труб и ринулся в штыковую атаку.
Это был последний шаг, на который решились патриоты, но враг не стал дожидаться их приближения. Горнисты протрубили сигнал к отступлению, и кавалерия, разметавшись по равнине, сосредоточилась на главной дороге и понеслась в сторону Кильстета и Гамбельхайма.
Пушка снова нацелилась в это живое месиво, но благодаря быстроте своего передвижения кавалерия вскоре оказалась вне пределов досягаемости.
Оба мальчика вернулись в город, преисполненные гордости. Шарль гордился тем, что видел сражение, а Эжен – тем, что принимал в нем участие. Шарль заставил Эжена поклясться, что тот научит его обращаться с ружьем, которым он так ловко владел.
Только после сражения стало известно, чем была вызвана тревога.
Пишегрю поручил генералу Лизембергу, немецкому рубаке, прошедшему хорошую школу у старого Люкнера, тому самому Лизембергу, который не без успеха вел партизанскую войну, оборонять передовой пост Бишвиллер; то ли по легкомыслию, то ли в пику постановлениям Сен-Жюста, вместо того чтобы проявлять повышенную бдительность согласно советам народных представителей, он позволил неприятелю застать войска врасплох на месте стоянки, был застигнут там и, удирая со штабом во весь опор, с трудом спасся.
Приблизившись к стенам города, он почувствовал себя увереннее и повернулся лицом к врагу, но было уже поздно: весь город был поднят по тревоге, и каждый понимал, что бедняге лучше было бы угодить в плен или дать себя убить, нежели искать убежища в городе, где распоряжался Сен-Жюст.
И правда, как только генерал оказался за земляным валом, он и весь его штаб были арестованы по приказу народного представителя.
Вернувшись в гостиницу «У фонаря», двое юных друзей застали бедную г-жу Тейч в величайшей тревоге: прожив месяц в Страсбург, Эжен приобрел здесь некоторую известность, и ей передали, что кто-то видел, как мальчик бежал с ружьем в сторону Агноских ворот. Сначала она не хотела этому верить, но, когда он вернулся, все еще не выпуская из рук оружия, ее задним числом обуял ужас, который возрос после рассказа Шарля (он был охвачен восторгом, как всякий новобранец, впервые наблюдавший сражение), а также от вида шляпы, пробитой пулей.
Но при всем своем восторге Шарль не забыл, что в два часа должен обедать у гражданина Евлогия Шнейдера.
Без пяти два мальчик, поднявшись по ступенькам крыльца уже не стремглав, как спускался по ним утром, постучал в низкую дверь, к которой они вели.
V. МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БРЁН
Как только прозвучал первый залп пушки, общество «Пропаганда» собрало своих членов и заявило, что не разойдется до тех пор, пока Страсбуру будет грозить опасность.
Каким бы истым якобинцем ни был Евлогий Шнейдер, являвшийся по отношению к Марату тем же, чем был Марат по отношению к Робеспьеру, «Пропаганда» превзошла его в патриотизме.
Из этого следует, что, хотя он и был общественным обвинителем и чрезвычайным комиссаром Республики, ему приходилось считаться с двумя силами, между которыми он был вынужден лавировать.
Этими силами были Сен-Жюст, который, как ни странно прозвучит для современного читателя сей бесспорный факт, представлял умеренную часть республиканской партии, и общество «Пропаганда», представлявшее крайне левую часть якобинцев.
Сен-Жюст обладал реальной властью, а вождь «Пропаганды» гражданин Тетрель – моральным авторитетом.
Поэтому Евлогий Шнейдер не счел возможным уклониться от присутствия на заседании «Пропаганды», где обсуждались способы спасения отечества, в то время как Сен-Жюст и Леба, отличавшиеся от всех своими костюмами народных представителей и трехцветными плюмажами, первыми покинули Страсбур и ринулись в гущу боя во главе республиканцев, приказав закрыть за собой ворота.
Как только враг был обращен в бегство, они вернулись в город и направились в ратушу, которая служила им домом; между тем члены общества «Пропаганда» продолжали заседать, несмотря на то что опасность миновала.
Это обстоятельство явилось причиной того, что Евлогий Шнейдер, столь настоятельно просивший других прийти к обеду в точно назначенное время, сам опоздал на полчаса.
Шарль воспользовался этой задержкой, чтобы познакомиться с тремя гостями, с которыми ему предстояло сесть за один стол.
Они же, предупрежденные Шнейдером, благосклонно встретили этого мальчика, присланного к ним для того, чтобы они сделали из него ученого, и каждый из них тотчас же решил заняться его образованием сообразно со своими знаниями и принципами.
Как уже было сказано, мужчин было трое. Их звали Эдельман, Юнг и Монне. Эдельман был выдающимся музыкантом, церковные песнопения которого не уступали самому Госсеку. Кроме того, он написал для театра партитуру оперы по мотивам поэмы «Ариадна на острове Наксос» (она ставилась во Франции, если мне не изменяет память, примерно в 1818-1820 годах). Это был человек небольшого роста, с угрюмым лицом, в очках, казалось приросших к его носу, во фраке каштанового цвета, неизменно застегнутом сверху донизу на медные пуговицы. Он устремился в ряды революционеров с безрассудством и неистовством, присущими фантазерам. Когда его друг Дитрих, мэр Страсбург, обвиненный Шнейдером в умеренности, потерпел поражение в разгоревшейся борьбе, Эдельман выступил против него на суде со словами:
– Я буду тебя оплакивать, ибо ты мой друг, но ты должен умереть, ибо ты предатель.
Что касается второго гостя, Юнга, то это был бедный сапожник; под грубой наружностью его, по ошибке или капризу природы, как это нередко случается, таилась душа поэта. Он владел латынью и греческим, но сочинял свои оды и сатиры только на немецком; его поэзия стала популярной благодаря общеизвестным республиканским взглядам автора. Зачастую простолюдины не давали ему прохода на улице, требуя: «Стихи, Юнг! Читай стихи!» В таких случаях он останавливался, взбирался на каменную тумбу, край колодца или первый попавшийся балкон, если таковой оказывался поблизости, и принимался извергать в небо свои стихи и оды, подобные шипящим ракетам, объятым огнем. Это был один из тех редких и честных людей, один из тех пламенных борцов, слепо преданных величию народной идеи, что ждали от революции лишь освобождения человеческого рода, и умирали, как древние мученики, без жалоб и сожалений, веря в грядущее торжество своего учения.
Третий гость, Монне, отнюдь не был незнаком Шарлю, и, завидев его, мальчик издал радостный возглас. Это был отставной солдат, служивший в ранней юности в гренадерском полку; покинув военную службу, он сделался священником и стал префектом коллежа в Безансоне, где и познакомился с ним Шарль. Двадцативосьмилетний Монне был в том возрасте, когда человека обуревают страсти; он сожалел о преждевременно данном обете безбрачия, но начавшаяся революция освободила его от этого обязательства. Монне был высокий, немного сутулый человек, преисполненный обходительности, учтивости и тихой прелестной грусти, с первого взгляда располагавшей к нему людей; у него была печальная улыбка, в которой временами сквозила горечь. Можно было подумать, что в глубине души он прячет какую-то мучительную тайну и просит у людей или, вернее, у всего человечества защиты от собственной наивности, самой грозной из всех опасностей в подобное время. В новых обстоятельствах он тотчас же устремился или, скорее, угодил в ряды сторонников крайних мер, к числу которых принадлежал Шнейдер; теперь же, будучи в ужасе от своего союза с фанатиками и соучастия в преступлениях, он брел с закрытыми глазами в неведомом ему направлении.
Эти трое были друзьями и неразлучными спутниками Шнейдера. Они уже начинали беспокоиться из-за того, что он задержался, ибо каждый из них чувствовал, что Шнейдер является для них крепкой опорой: если он пошатнется – они упадут, если он упадет – они погибнут.
Монне, самый нервный и, следовательно, самый нетерпеливый, уже собирался отправиться на поиски задержавшегося, как вдруг все услышали поскрипывание ключа в замочной скважине, а затем дверь с шумом распахнулась.
В тот же миг на пороге появился Шнейдер.
Как видно, заседание было бурным: на пепельного цвета лице гражданина обвинителя проступили красные пятна; хотя дело было в середине декабря, по его лбу струился пот, и раскрытый ворот позволял видеть, как сильно вздулись жилы на его бычьей шее.
Войдя, Шнейдер швырнул на другой конец комнаты шляпу, которую он держал в руке.
Завидев его, трое мужчин подскочили как на пружинах и сделали шаг ему навстречу; Шарль же, напротив, притаился за спинкой своего стула как за баррикадой.
– Граждане, – сказал Шнейдер, скрежеща зубами, – граждане, я принес вам хорошее известие; оно, если не обрадует вас, то, по крайней мере, удивит. Через неделю я женюсь.
– Ты? – вскричали в один голос трое мужчин.
– Да. Не правда ли, все в Страсбуре будут страшно удивлены, когда эта новость разнесется по городу: «Вы не слышали?» – «Нет, а что?» – «Кёльнский капуцин женится!» – «Неужели?» – «Точно!» Ты, Юнг, напишешь свадебную песню, Эдельман положит ее на музыку, а Монне, столь же веселый, как катафалк, исполнит. Надо будет сообщить об этом с ближайшей почтой твоему отцу, Шарль!
– На ком же ты женишься?
– Право, я пока не решил, да и мне все равно; я хочу жениться на своей старой кухарке, чтобы подать достойный пример слияния классов.
– Да что же с тобой стряслось? Рассказывай.
– О! Почти ничего, если не считать того, что меня допрашивали, на меня нападали, меня обвиняли, да, да, обвиняли!
– Где же?
– В «Пропаганде».
– О! – воскликнул Монне. – В обществе, что ты создал!
– Разве ты не знаешь, что порой встречаются дети, которые убивают своих отцов?
– Но кто же на тебя нападал?
– Тетрель. Поглядите-ка на этого демократа, придумавшего великолепное движение санкюлотов, в его распоряжении версальские ружья, пистолеты, украшенные королевскими лилиями, свора приспешников, словно у кого-то из «бывших», и табуны лошадей, как у принца! Именно он, неведомо почему, стал кумиром страсбурской черни. Может быть, потому, что он сверкает позолотой, как тамбурмажор, и такого же роста. Между тем мне показалось, что я представил достаточно гарантий; так нет же, форма полномочного обвинителя не заставила позабыть ни о рясе капуцина, ни о сутане каноника. Он заявил мне в лицо, что сан священника покрыл меня позором и, по его словам, неотвратимо внушает подозрение ко мне подлинным друзьям свободы. Кто же принес ему больше жертв, чем я, во имя святой свободы? Кто, как не я, меньше чем за месяц бросил к его ногам двадцать шесть голов? Сколько же им еще надо, если и этого недостаточно?
– Успокойся, Шнейдер, успокойся!
– В самом деле, – продолжал Шнейдер, горячась все сильнее, – от этого можно сойти с ума! Я оказался между «Пропагандой», которая твердит мне: «Мало!», и Сен-Жюстом, который твердит: «Слишком много!» Вчера я приказал арестовать еще шестерых собак-аристократов, сегодня – четверых. Мои «гусары смерти» день и ночь рыскают по Страсбуру и его окрестностям; сегодня вечером я должен взять под стражу одного эмигранта: он посмел перебраться через Рейн в лодке контрабандистов и явиться в Плобсем, чтобы вместе со своей семьей плести там заговор. Уж он-то, например, не сомневается в своей правоте. Ах! Теперь я понимаю одно, – продолжал он, угрожающе вытягивая руку, – события гораздо сильнее нашей воли, и если некоторые люди, подобно боевым колесницам из Священного писания, сметают на своем пути целые народы, то это значит, что их направляет та самая неведомая роковая сила, которая пробуждает вулканы и низвергает вниз водопады.
Произнеся эту тираду, не лишенную некоторого красноречия, он внезапно разразился нервным смехом:
– Ба! Нет ничего до рождения, и нет ничего после смерти; жизнь всего лишь кошмар наяву; так стоит ли придавать ему значение, пока он длится, и сожалеть о нем, когда он кончается? Нет, клянусь честью! Давайте лучше обедать; valeat res ludicra note 2, не так ли, Шарль?
И, направившись первым, он распахнул перед друзьями дверь столовой, где уже был накрыт великолепный обед.
– Скажи же, наконец, – сказал Юнг, усаживаясь вместе с другими за стол, – каким образом из этого следует, что ты женишься через неделю?
– Ах, правда, я забыл поведать вам о самом чудесном! Вы думаете, что окрестив меня капуцином из Кёльна, где я никогда не был капуцином, и каноником из Аугсбурга, где я никогда не был каноником, они не попрекают меня при этом оргиями и развратом?! Меня – оргиями, представьте себе! На протяжении тридцати четырех лет моей жизни я пил только воду и питался одной морковью; если теперь я тоже ем белый хлеб и жую мясо, – это наименьший из моих грехов. Меня – развратом! Если они считают, что я отказался от духовного сана, чтобы жить как святой Антоний, то ошибаются. Что ж, есть простой способ положить этому конец – жениться. Я стану, подобно другим, преданным супругом и добропорядочным отцом семейства, черт побери! Если только гражданин Сен-Жюст даст на это время.
– Но ты хотя бы выбрал, – спросил Эдельман, – ту счастливую невесту, которую удостоишь чести разделить с тобой ложе?
– Пустяки! – ответил Шнейдер. – Лишь бы была женщина, а об остальном позаботится дьявол.
– За здоровье будущей супруги Шнейдера! – воскликнул Юнг, – и, раз он взял в поверенные дьявола, пусть дьявол пошлет ему, по крайней мере, богатую, молодую и красивую женщину.
– Да здравствует жена Шнейдера! – вздохнул Монне. В эту минуту дверь распахнулась и на пороге столовой показалась старая кухарка.
– Там, – сказала она, – пришла какая-то гражданка, она просит разрешения поговорить с гражданином Евлогием по срочному делу.
– Полно! – отрезал Евлогий, – сейчас у меня только одно неотложное дело – закончить начатый обед; пусть она придет завтра!
Старуха удалилась, но почти тотчас же дверь снова открылась.
– Она говорит, что завтра будет слишком поздно.
– Где же она была раньше в таком случае?
– Раньше я не могла, гражданин, – послышался из прихожей нежный голос, в котором звучала мольба, – позволь мне тебя увидеть, позволь мне поговорить с тобой, умоляю!
Евлогий нетерпеливо махнул старухе рукой, приказывая закрыть дверь и подойти ближе, но тотчас же подумал о том, как свеж и юн этот голос, и спросил у старухи с улыбкой сатира:
– Она молода?
– Ей, должно быть, лет восемнадцать, – ответила кухарка.
– Красива?
– Чертовски красива! Трое мужчин рассмеялись.
– Ты слышишь, Шнейдер, чертовски красива!
– Ну, – сказал Юнг, – теперь остается лишь убедиться в том, что она богата, и вот тебе невеста; открывай, старуха, да поживее; красивое дитя, как видно, тебе знакомо: ее прислал сюда сам дьявол.
– Почему же не Бог? – спросил Шарль столь ангельским голосом, что трое мужчин вздрогнули.
– Потому что наш друг Шнейдер не в ладах с Богом и, напротив, в прекрасных отношениях с дьяволом; я не вижу другой причины. И потом, – прибавил Юнг, – только дьявол так быстро удовлетворяет адресованные ему просьбы.
– Ладно, – сказал Шнейдер, – пусть войдет! Старуха открыла дверь, и в дверном проеме тотчас же показался изящный силуэт девушки в дорожном костюме; она была укутана в черную атласную накидку, подбитую розовой тафтой.
Девушка вошла в столовую и остановилась подле свечей, напротив четверых сотрапезников, которые, глядя на нее, не удержались от приглушенных возгласов восхищения.
– Граждане, – промолвила девушка, – кто из вас гражданин комиссар Республики?
– Я, гражданка, – откликнулся Шнейдер, продолжая сидеть.
– Гражданин, – сказала она, – я должна попросить тебя об одной милости, от которой зависит моя жизнь.
И тут она с тревогой оглядела всех гостей.
– Пусть тебя не смущает присутствие моих друзей, – сказал Шнейдер, – эти друзья и по своим наклонностям, и, можно сказать, по общественному положению, являются ценителями красоты. Вот мой друг Эдельман – он музыкант.
Девушка кивнула, как бы говоря: «Его музыка мне знакома».
– Вот мой друг Юнг – он поэт, – продолжал Шнейдер.
Девушка снова кивнула, как бы говоря: «Я знаю его стихи».
– И вот, наконец, мой друг Монне – он не поэт и не музыкант, но у него есть глаза и сердце, и я вижу по его глазам, что он всерьез настроен взять вас под защиту. Что касается моего юного друга, он еще только школяр, как сами видите, но уже достаточно сведущ, чтобы проспрягать глагол «любить» на трех языках. Итак, вы можете объясниться в их присутствии, если только то, что вы должны мне сказать, не столь интимная вещь, что требует разговора с глазу на глаз.
С этими словами он поднялся со стула и протянул руку к девушке, указывая ей на приоткрытую дверь, которая вела в пустую приемную.
Девушка встрепенулась:
– Нет, сударь, нет. Шнейдер нахмурился.
– Прошу прощения, гражданин… Нет, гражданин, то, что мне нужно сказать тебе, не боится ни света, ни огласки.
Шнейдер опустился на место, жестом приглашая девушку присесть.
Но она покачала головой и сказала:
– Просителям полагается стоять.
– В таком случае, – продолжал Шнейдер, – будем действовать согласно порядку. Я рассказал тебе, кто мы такие; теперь скажи нам, кто ты?