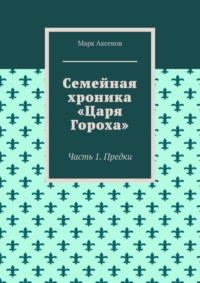
Семейная хроника «Царя Гороха». Часть 1. Предки

Семейная хроника «Царя Гороха»
Часть 1. Предки
Марк Аксенов
Моей любимой дочке Кате
© Марк Аксенов, 2021
ISBN 978-5-0053-1907-4 (т. 1)
ISBN 978-5-0053-1908-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вступление
История с именем
Я родился вскоре после окончания Великой Отечественной. Время было трудное, полуголодное. Только что отменили карточную систему на продукты питания. И, тем не менее, молодые семьи, ютившиеся в крохотных комнатушках перенаселённых коммуналок в бараках и подвалах, активно обзаводились детьми, нисколько не задумываясь о возможных проблемах с яслями и детским садом для ребёнка, и о карьерном росте для себя. Проблема была скорее в выборе для меня подходящего имени, что случается сплошь и рядом, когда муж и жена имеют разную национальную принадлежность. Отец очень хотел назвать меня Самуилом в честь любимого дяди Мули. Мама была категорически против. Ей очень нравилось имя Максим. Этот спор длился бы очень долго, если бы в него не вмешался мамин отец, мой дед, предложивший назвать меня Матвеем. И это оказалось идеальным компромиссом. Ибо имя «Матвей», являясь, также, как и имя «Иван», древнееврейским по происхождению, было широко распространено и в русской среде. Не скажу, что мне оно особенно нравится, но в любом случае я по сей день благодарен деду, спасшему меня от «Мули». К тому же, отец вскоре после моего рождения навсегда покинул нашу семью, унеся с собой в неизвестном направлении благодарную память о неведомом дядюшке Самуиле.
Как я стал «царём»
Когда мне исполнилось двенадцать лет, – а было это в самом начале шестидесятых, – в жизни нашей семьи произошло два серьёзных события. Во-первых, внезапно заболела мама. Заболела тяжело с приступами удушья, с отеками легкого. Второе событие было напротив радостным – наконец-то женился мамин брат, долго ходивший в холостяках. Оба эти факта, как бы, с двойной подстраховкой обусловили наш с мамой переезд на Юго-Запад Москвы поближе к дедушке с бабушкой. А в нашу комнатуху на третьем этаже серой измайловской пятиэтажки переселился мой дядька с молодой женой. Этот переезд однозначно положительно повлиял и на мамино здоровье, и на моё поведение, которое под влиянием хулиганского окружения, царившего в те времена в Измайлове, заметно ухудшилось. Какое-то время до конца учебного года я еще продолжал ездить в школу на Сиреневом бульваре, дорога до которой с тремя пересадками занимала полтора часа. А осенью я уже стал учеником шестого Б в своей новой школе. По началу мне показалось, что новые мои товарищи мало чем отличаются от измайловской шпаны. На первой же перемене ко мне подошли двое ребят. Самый высокий из них хлопнул меня по плечу:
– Привет Горох!
– Я не Горох, а Горохов, – попробовал я было возразить, на что он миролюбиво заметил:
– Да ты не обижайся! У нас у всех кликухи такие. Меня вот Толик зовут, а фамилия Бубнов. Но можешь звать меня просто Бубен или Толян. А Лёшку Гусева можешь Гусём звать. Он не обидится. Правда, Лёха?
Так за мной закрепилось прозвище Горох, что для меня вовсе не было обидно, ибо «горохами» называли себя многие наши родственники. Однажды учитель литературы начал какой-то свой рассказ словами:
– А было это давно, как принято говорить, ещё при Царе Горохе!
При этих словах все захихикали и стали показывать пальцами на меня:
– Это при нём было! Царь-Горох, это же при тебе было? Сознавайся!
Так моё прозвище пополнилось ещё и монаршим титулом.
Родина предков
Во время путешествий по Италии мне несколько раз приходилось проезжать один из красивейших её регионов – Тоскану. За окном автобуса мелькают симпатичные городки и селения, окруженные полями, садами и виноградниками. А за ними на зеленых холмах порой возникают сказочные очертания замков. Но вот вдруг, то тут, то там замечаешь дома и хозяйственные постройки с чёрными провалами окон, а иногда целые хутора и деревеньки, видимо брошенные жителями. «Что поделать, – говорит наш гид, – люди перебираются жить в города, туда, где есть работа…» Уж не знаю, тоскуют ли жители Тосканы по этому поводу. Может, и тоскуют. Но только Италия при всём при этом – крупнейший в Европе производитель овощей, фруктов и прочей сельхозпродукции. Да ведь и Россия в последнее время в этом вопросе не отстает, а в чём-то даже и обгоняет не только Италию, но и другие страны. Почему же нам так грустно, когда мы видим наши обезлюдевшие сёла и заброшенные дома? Наверное, просто потому что они наши. Кто-то в них родился и жил в юные годы, у кого-то здесь жили родители…
Деревеньки, затерянные среди владимирских лесов и болот, где появились на свет и провели свою молодость мои предки по материнской линии, ещё живы, хотя давно уже не так многолюдны, как в прошлом. Земля в этих местах никогда не была плодородной и не могла прокормить живущих на ней крестьян. Поэтому многие жители здешних деревень и сёл занимались разными ремёслами, основным из которых было плотницкое дело. Издавна владимирские мужики целыми плотницкими бригадами, или, как тогда говорили, артелями уходили на заработки в Москву, Петербург, Ростов на Дону и даже в Одессу. Этот промысел назывался «отхожим», а те, кто им занимался, называли себя «отходнЫми». Больше всего плотников было в Аргуновской волости, центром которой было село Аргуново, стоявшее на берегу реки Киржач. По имени этого села сначала только местных, а затем и всех владимирских плотников стали называть «аргунами». Краеведы рассказывают, что вокруг Аргунова сложилась даже некая «аргуновская цивилизация» с самобытным укладом жизни, с удивительной техникой «глухой» аргуновской резьбы по дереву, образцы которой мне довелось увидеть в городке Киржач. Самого села Аргунова давно уже нет, как нет в помине и «аргунов», одним из которых был мой дед Иван Иванович Горохов.
Глава первая. Дед Иван
По молодости лет мне и в голову не приходило специально расспрашивать деда о его семье, родителях, братьях и сёстрах. В отличие от детей прошлых поколений, мы были уже избалованы разными источниками исторической информации, – радио, телевидение, кино, – более интересными, чем скупые, сбивчивые рассказы наших немногословных предков. Но кое-что из этих редких рассказов всё же просачивалось в моё детское сознание и закреплялось в памяти.
Происхождение фамилии
Однажды, я поинтересовался, почему дед носит фамилию Горохов. На это дед с улыбкой сообщил, что у его дедушки было прозвище «Горох». И связано это было вовсе не с гастрономическими пристрастиями и не с огородничеством, а, как ни странно, с плотницким ремеслом. Дело в том, что во времена его деда все ещё пользовались древнерусскими мерами длины. И, если с большими мерами, вроде аршина или сажени, было всё ясно, то с малыми были проблемы. Вершок – четыре с половиной сантиметра, перст – два сантиметра. А меньше? «Полперста» или тем более «четверть перста» ещё и не выговоришь. А о сантиметрах и миллиметрах никто не знал. Поэтому мой прапрадед говорил напарнику: «Передвинь бревно (или там, отрежь доску) на горошину», то есть, примерно, на один сантиметр. Так и прозвали его «Горохом». А дети его стали Гороховы. В быту же дедовы родичи часто называли себя просто «горохами».
Это было, пожалуй, всё то немногое, что дед знал из истории своих предков. На мои дальнейшие расспросы он сокрушенно качал головой и вспоминал, что отец его, Иван, будучи человеком грамотным, вёл дневник в большой амбарной книге, где записывал по мере возможности сделанное за день – откуда и сколько тёса вывезено для строительства нового сарая, сколько аршин ситца куплено на ярмарке и прочие мелочи жизни, такие обычные для того времени, и такие интересные для современного читателя. Особенно, если этот читатель – прямой потомок того, кто писал дневник. К великому сожалению деда, после смерти его отца амбарная книга за «ненадобностью» была пущена женщинами на растопку. Так что, за отсутствием письменных источников мне не остаётся ничего другого, как только полагаться на какие-то отрывочные воспоминания и рассказы родственников.
Однажды, например, будучи в гостях, я разговорился с дальней родственницей деда. Сейчас даже не вспомню, как её звали. Помню только, что упоминания о каких-то неведомых мне Дурышкиных изредка мелькали в разговорах моих стариков. Весь образ этой пожилой женщины, – а назвать её старушкой язык не поворачивался, – являл собой полную противоположность этой не слишком благозвучной фамилии. В её голубых глазах за стёклами очков читались ум и доброта. И вся она, хрупкая, маленькая, с высокой шапкой седых, аккуратно уложенных волос в скромном бордовом костюмчике, казалось, излучала какой-то невидимый добрый свет. Оказалось, что она хорошо знала всю нашу семью и даже не раз встречалась со мной. Правда, было это, видимо, в те годы моего детства, когда я мог отчетливо различать и запоминать среди многочисленных наших гостей только военных с блестящими медалями и погонами, или музыкантов, которых я совершенно искренне считал волшебниками. Так вот эта милая женщина сильно пополнила мои знания о многочисленных родственниках деда о сложном переплетении родственных связей, которые, впрочем, вряд ли заинтересуют читателя. Главное, что я от неё узнал, так это имя своего прапрадеда, того самого, что получил прозвище «Горох». Звали его Еремей. И именно его я должен считать самым давним корнем родословного дерева Гороховых. Ибо никаких сведений о его предках, мне узнать не удалось. И ещё, что мне удалось узнать из того давнего разговора, – это звучное имя или прозвище моей прабабки – «Аксинья из Заболотья». Именно её, уроженку соседней деревни Заболотье, взял себе в жены один из сыновей Еремея – Иван. И вот они-то – Иван и Аксинья – стали родителями моего дедушки, а также двух его братьев и трёх сестёр. Вот, собственно, и всё родословное древо предков деда Ивана. Многие корни, ветки и листья на нём отсутствуют, и потому оно выглядит корявым и поломанным, будто над ним буря пронеслась. Что поделаешь! Отчасти оно так и есть, если вспомнить историю России двух последних столетий.
Что же касается биографии самого деда и его собственной семьи, то тут я осведомлён немного больше.
Детские годы Ивана
Малой родиной Ивана была небольшая деревенька Орехово Владимирской губернии. Я долго пытался найти это название на современных картах. Но все мои усилия были тщетными. На старых, дореволюционных картах деревня была, и величали её по-разному – то Орехово, то Орехи. А на современных она попросту пропала. И я долгое время думал, что деревня эта, подобно многим селениям в средней полосе России, обезлюдела и растворилась в бурьяне и чертополохе. И вот лет пять назад я с друзьями решил посетить родные места моих предков. Целью поездки была родная деревня моей бабушки – Дубнино, которая, в отличие от Орехова, присутствует на всех картах. Свернув с шоссе, соединяющего Киржач и Покров, в большое село Трегубово, мы остановились, чтобы уточнить дальнейшее направление движения и постучали в первую приоткрытую калитку.
Из дома вышла приветливая пожилая женщина с маленьким внуком, вцепившимся в подол её халата, и в ответ на наши расспросы подробно рассказала нам, как лучше проехать в Дубнино, заранее предупредив, что лучше бы нам успеть до дождя. Потому как, если развезет, то по лесной дороге и на тракторе не добраться. Поблагодарив, мы уже стали закрывать за собой калитку, как вдруг что-то остановило меня. «Чем черт не шутит? Дай-ка, спрошу?»
– А не подскажете, есть ли тут поблизости такая деревня – Орехово?
– Есть, конечно, куда ж ей деться? – ответила женщина, удивленно округлив глаза.
– То есть, как? – у меня аж дыхание перехватило, – Где же она?!
– Как это где? Да вот тут она и есть! Мы же с вами – в Орехове!
– ????
– Просто в семидесятые годы у нас уже мало дворов осталось, а Трегубово наоборот – разрослось, и нас к нему присоединили. Но мы-то местные знаем, что вот эти улицы и вон те, что пониже – это Орехово.
Надо ли вам говорить, какие эмоции захлестнули меня? Я чувствовал себя Колумбом! Да что там Колумб! Я же нашел столь дорогой для меня маленький осколок «Атлантиды», затонувшей в холодных водах людского забвения, кусочек той самой «Аргуновской цивилизации». Ведь деревенька Орехово входила когда-то в Аргуновскую волость.
В семье Ивана Еремеевича и Аксиньи Ивановны (дедовых родителей) все мужики, разумеется, становились плотниками, столярами или краснодеревщиками. Дед уже с десяти лет начал обучаться мастерству у отца и старших братьев, и даже ездил с ними в Москву и другие города, если это не мешало учёбе. Об этом он рассказывал мне сам. А что касается его учёбы, то вот передо мной документ, напоминающий афишу размером больше, чем два листа писчей бумаги. Внизу по углам портреты Гоголя и Пушкина, а наверху посередине три овальные рамочки, содержимое которых аккуратно кем-то вырезано. Рискну предположить, что в средней рамке был двуглавый орёл, а с двух сторон от него были портреты царя Николая II и царицы Александры Фёдоровны. В этом документе со старорежимными «ятями», который называется «Свидетельством», написано следующее: «Покровский Уездный Училищный Совет сим удостоверяет, что Горохов Иван Иванов сын крестьянин дер. Орехи Овчининской волости Покровского уезда Владимирской губернии, рожд. в нояб. 1901 г. отлично окончил курс учения в Трегубовском народном училище.
Выдано апреля 28 дня 1915 года»
Далее идут подписи Председателя Совета, Инспектора народных училищ и членов Совета. Рядом с Пушкиным – печать Покровского училищного Совета, сильно побледневшая и, я подозреваю, не столько от времени, сколько потому, что в середине её простирал когда-то свои крылья всё тот же двуглавый орёл. Сейчас можно над этим смеяться, но в то время, видимо, спокойнее и «логичнее» было сказать, что ты в Советскую Россию с неба свалился, чем признаться, что жил при царе и имел какие-то документы с царскими гербами и портретами. Народные училища были двухклассные и четырёхклассные. Дед закончил четыре класса. В 1915 году уже шла война, а через два года одна за другой грянули две революции. Но события большой политики обходили Ивана стороной, пока не наступил год 1920.
Красноармеец Иван Горохов
Согласно сохранившемуся Военному билету, мой дед был призван на действительную службу в начале марта тысяча девятьсот двадцатого года. В числе прочих новобранцев Иван Горохов, которому в то время было 18 лет, проходил воинскую подготовку в Москве на Ходынском поле. Дед смеялся, рассказывая, как для соблюдения единообразия формы им всем за отсутствием сапог выдали лапти. Дело в том, что дед в лаптях практически никогда не ходил. Хоть он родился и жил в деревне, но работал, как и все плотники во Владимирской области, «в отходе» или, как я уже говорил, занимался «отхожим промыслом». «ОтходнЫе» считали себя почти городскими и ходили исключительно в ботинках. На Ходынке пришлось «переучиваться» на лапти и онучи. Готовили новобранцев якобы к отправке на Кавказ. Обман раскрылся уже по пути на фронт. Новобранцы, те, что были родом из Смоленской области, вдруг увидели родные места. Их небольших знаний географии было достаточно, чтобы понять, что везут их не на юг, а на запад. Кое-кто из них выпрыгнул из вагонов и подался домой. Остальные оказались на территории Западной Белоруссии, где в то время стремительно развивались события советско-польской войны.
Причина конфликта состояла в том, что после поражения Германии в Первой мировой Советское руководство отменило Брестский мир и Красной Армии был дан приказ занять отданные немцам по условиям этого позорного мира западные области России, включая западные части Белоруссии, Украины и Прибалтики. Однако, Польша также претендовала на эти земли. Красная Армия противостояла польским войскам на двух фронтах – на Западном под руководством Тухачевского и Юго-Западном под руководством Егорова. Здесь основной силой была Первая конная армия Буденного. После успешных действий будёновцев на Украине в атаку перешли и войска Тухачевского. Поляки отступали в панике, впрочем, не забывая при этом взрывать за собой мосты и железнодорожные пути. В результате, передовые дивизии Тухачевского, почти подойдя в августе 1920 года к Варшаве, оказались так сильно оторваны от своих тылов, что положение их сделалось не менее рискованным, чем положение поляков, защищавших Варшаву. Тухачевский, правда, ожидал, что, согласно общему плану компании, его фланги поддержит с юга Первая конная. Однако товарищи Ворошилов и Буденный, всячески поддерживаемые товарищем Сталиным, не торопились это делать. «С какой стати? Чтобы этот барчук Тухачевский, триумфально вошел в Варшаву? А они – где-то сбоку? Нет уж, кукиш вам с маслом! Чай, мы сами с усами!» Не ручаюсь за точность выражений – думаю, что у бывшего рабочего Ворошилова и бывшего драгуна царской армии Буденного были аргументы «покрепше» моих – но мотив их поведения, по свидетельствам историков был именно таким. И вот вместо того, чтобы помогать Тухачевскому взять Варшаву, они решили сами чего-нибудь «взять». Рядом был богатый польский город Львов, который показался им легкой добычей. Однако, сколько они ни старались, взять Львов не удавалось. Главком Каменев – тоже, кстати, из «бывших» – кипел от негодования, слал из Москвы грозные приказы! В конце концов переподчинил все войска Юго-Западного фронта непосредственно Тухачевскому, который тоже приказывал поддержать наступление на Варшаву. Бесполезно! Очень уж хотелось самим взять Львов. А помогать, и, тем более, подчиняться Тухачевскому совсем не хотелось.
Тем временем прибывшие на помощь Пилсудскому английские и французские генералы быстро сообразили, что к чему, и организовали энергичные удары с южного направления по рыхлым, растянутым флангам и тылам Красной армии. Из Франции подтянулись сформированные там из пленных поляков соединения в количестве 70 тысяч штыков. И, когда, наконец, Первая конная, так и не взяв Львов, ринулась на помощь Тухачевскому, ее встретили уже хорошо вооруженные, свежие силы противника. Которого, кстати, поддерживали даже прибывшие из Америки бомбардировщики.
Что же касается нашего вооружения, то по рассказам деда поначалу, когда их привезли на фронт, одна винтовка была, хорошо если на троих, а то и на пятерых. В свете этого как-то двусмысленно смотрится плакат Окон РОСТА того времени, а, вернее сказать, стих Маяковского, помещенный на нём.
«Крепнет коммуна под пуль роем.
Товарищи, под винтовкой силы утроим»
То бишь, всё, как в жизни – «винтовка» в единственном числе, а «товарищей», которые и так уже во множественном, предлагается ещё и утроить.
Из дедовской Книжки красноармейца и исторических документов мне удалось узнать, что 57-я стрелковая дивизия, в которой служил красноармеец Горохов входила в состав 16-й армии Западного фронта. Во время Варшавской операции в начале августа двадцатого года 16-я армия форсировала Западный Буг и продвинулась к Висле, выйдя на подступы к Варшаве. Когда же в середине августа началось контрнаступление польской армии, части 16-й армии вынуждены были отступать с тяжелыми арьергардными боями.
Видимо, об этом периоде дед вспоминал, как о времени разброда и неразберихи, когда части Красной армии отступали и «по лесам бегали и прятались от начальства дезертиры». И вот однажды, во время ночного привала в каком-то селе около тысячи измотанных, плохо вооруженных, и дезорганизованных красноармейцев, и в их числе мой дед, были взяты в плен эскадроном польских кавалеристов, многие из которых были вооружены «ручными пулеметами». Так дед называл еще диковинное в те времена оружие. Он говорил, что это были не «шмайссеры» или ППШ, которые появились позже, во время Второй мировой, а какие-то небольшие автоматы с деревянными прикладами и рукоятками. Скорее всего, на вооружении у поляков оказался, «маузер», деревянная кобура которого могла использоваться в качестве приклада. Обычные «маузеры» стреляли одиночными выстрелами, но была модификация, позволявшая стрелять и очередями.
Польский плен
В декабре 1968 года я готовился к поездке в Польскую Народную Республику, – так в то время называлась Польша, – в составе студенческой делегации нашего института. Современным молодым людям, которые к двадцати годам уже успевают посмотреть полмира, трудно понять мои ощущения и надежды, связанные с предстоявшей поездкой, которая должна была стать для меня первым знакомством с заграницей. И я загодя стал изучать польский язык и исподволь знакомиться с польской историей и культурой. Кстати, затем это вошло у меня в привычку. В какую бы страну я не собирался, я обязательно хотя бы немного учил её язык.
Но вернемся в декабрь 1968-го. Увидев у меня на столе польский словарь, дед саркастически, как он умел, ухмыльнулся и спросил
– К полякам собрался?
– Да, а что? Ты тоже туда ездил?
– Да уж, пришлось…
И вот тогда дед рассказал, как он оказался в Польше. Поскольку дед застал меня за изучением языка, я спросил, помнит ли он что-нибудь по-польски. И он, не задумываясь, произнес наиболее запавшее в память. Это не было какое-нибудь «Проше пана» (Прошу вас) или «Пшепрашам» (Извините). Нет! Первое что дед выпалил без запинки, было «Пщякрев!» (Psiakrew!). Перевод я легко отыскал в словаре – это польское ругательство, вполне безобидное в сравнении с русским матом, переводится, как «Собачья кровь». Именно так «ласково» обращались к русским военнопленным охранники в польском концлагере, куда дед попал. А вот вторая фраза заставила меня провести целое лингвистическое расследование.
«Двадешти пенти в дуб». Дед объяснил, что это означало «двадцать пять ударов розгами». Такое наказание полагалось пленным за крупную провинность. В особенности за попытку побега, коих у деда было три. Но рядом с лагерем не было лесов, и единственным местом, где можно было временно укрыться от взгляда часовых, были поля подсолнуха. Туда и бежали. Но это не помогало. Охранники с собаками настигали беглецов, и, схватив за волосы, волокли обратно в лагерь. Дед в юности был рыжим чубатым парнем. Из польского плена он вернулся практически лысым. Ну а после побега он, естественно, получал свои законные «Двадешти пенти в дуб».
Ну двадцать пять – это понятно. Правильно по-польски это звучит приблизительно так – Двадещчи пенчи (Dwadziesci pieci). А вот причем тут дуб, дед объяснить не смог, а может быть, не захотел. Словарь мне ничем не помог. А помог русско-польский анекдот, который рассказал мне однокурсник, тоже собиравшийся в ПНР.
Советско-польская граница. Зима, ночь, мороз. Постовым, – что нашему, что поляку, – стоять холодно и скучно. И вот через границу налаживается «культурный» диалог.
Наш пограничник протяжно и громко кричит – А как по-польски будет «жо-о-о-па»?
Поляк отвечает – Ду-у-у-па!
Наш, подумав, одобрительно кричит в ответ – Тоже краси-и-и-во!
Зима, ночь, мороз и… тоска по прекрасному.
Итак, слова «в дупу» – а не в «дуб», как запомнил дед, – означали место, куда попадали те самые двадцать пять ударов розгами.
Недавно польский премьер-министр возмутился, когда какой-то американский политик назвал Освенцим и Майданек «польскими концлагерями». И правильно возмутился. Потому что это были немецкие концлагеря на территории Польши, оккупированной фашистской Германией.
Так вот, для молодого читателя, в голове которого, вполне возможно, исторические знания спутаны, как овощи в борще, я специально уточняю, что я сейчас рассказываю не о гитлеровских концлагерях времён Второй мировой войны 1939—45 годов, а именно о польских концлагерях для советских военнопленных в начале двадцатых годов ХХ века.
Конечно, этим польским лагерям было далеко до фашистских фабрик смерти с их газовыми камерами и крематориями. Но и в них жизнь была не сахар. Пленные содержались в нечеловеческих условиях. Антисанитария, отсутствие отхожих мест, голод, холод, издевательство охранников – всё это приводило к болезням и смертям.
Я же расскажу то, что слышал сам от моего деда. Однажды он поинтересовался, будет ли проезжать наш поезд небольшой городок Седльце (Siedlce).
Я, посмотрев на карту, увидел, что город Седльце действительно находится на полпути к Варшаве, и спросил:
– А что? Ты там бывал?
– Да нет, – сказал он после небольшого раздумья, – мне повезло.
Увидев, как я удивился, дед рассказал, что, когда в конце советско-польской войны стороны договорились об обмене пленными, поляки стали переводить военнопленных поближе к границе. Переводили только тех, кто мог идти сам. А дед в это время заболел брюшным тифом и его в числе прочих заболевших отправили в лагерный госпиталь. После выздоровления дед какое-то время еще находился в лагере и даже успел поработать там и плотником, и сапожником.