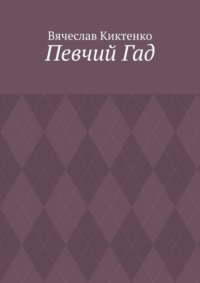
Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом
Да, похоже, что так: листва – плоская, тщательно выписанная (до складочек, до прожилочек) икона, просвечивающая Чрезвычайным, По-ту-сторонним…
Впрочем, в листве уже бушует завязь, постепенно оформляющаяся – в плоды. Так что же это? – Возрождение?..
ВОЗРОЖДЕНИЕ, ВОЗРОЖДЕНИЕ!
Плодоносящий сентябрь! – Собран урожай язычества. Всё уже свезено в закрома, в музеи, в галереи… выданы накладные, прикинуто сальдо-бульдо, нетто-брутто…
И что?
Всё снова плосковато, хрупко, прозрачно в мире. Осень. Листва. Увядание.
Грустно, но красиво. Этакая предсмертная, уже неземная краса… да это же —
ДЕКАДАНС!
Сплошные трепещущие догадки о подзабытом уже Чрезвычайном.Смертельно перекрашенное, перекроенное, сильно побледневшее средневековье…И вот здесь, именно здесь один уже только Символ способен (сквозь времена оборотясь) протянуться к Мифу, к первооснове, тайно зыблющей в себе земное и неземное, сущее и при-сущее……и недаром же это кошмарное:жёлтый лист – символист,жёлтый лист – символист…жёлтый лист – символист,А что за ним, за символом?А за ним уже чахлый постсимволизм, постмодернизм, расшуршавшийся на столетие. Земляная опрелость, мутация форм, вызревание сквозь зиму нового мифа. Нечто взыскуемое, замороженное в глобальном холодильнике уже оттаивает и смутно обозначает себя в самом воздухе. – В прозрачном, студёном воздухе, где слабенько ещё мерцает, искрится морозными икринками зернистая, шаровая константа всесочленений нового мира……жёлтый лист – символист,жёлтый лист – символист,жёлтый лист – символист.…ОТВЯЗАЛОСЬ!»Пустыня
…отвязалось… всё-таки отвязалось от Великого наваждение – беспробудное пьянство. Стал пробуждаться. Пил всё чаще в режиме переменного тока, а не постоянного. Но и это не приносило полноты мирочувствования. Устал Великий однажды (это «однажды» потом, слава Богу, повторялось) пьянствовать и хандрить. Ненадолго, но устал. А ведь всё располагало к пьянству, даже к запоям – несчастливые шашни, хандра, дурь… многое другое. Всякое.
Решил найти крайнего, виновного в недуге. Даже в себе искал. Искал, и – нашёл! Не в себе любимом, а в порочном календаре.
Полистал, и – ужаснулся. «Да это что ж такое! Сплошные праздники! В церковном календаре – сплошь… ну, это понятно. Так ведь и в общегражданском! „День кооператора“», «День химика», «День физика», «День утилизатора»…день, день, день… всего на свете день, всего день, всего праздник!
Пьянь без просвета.
И наваял:
Праздничный террор
«Сердечной тоской, недостаточностью
Были празднички нехороши,
Широким похмельем, припадочностью…
Но был и просвет для души:
Меж праздничками, точно в паузе
Сердечной, забившись в тенёк,
Один был, царапался в заузи,
Как слесарь, рабочий денёк,
Хороший такой, озабоченный,
Сухой такой, узенький, злой,
Праздничками обесточенный,
Царапающийся иглой —
Как будто бы ключиком в дверце,
Мерцал и царапался в сердце…
Хороший, рабочий денек…»
***
Наваял стишки-отвороты, стишки-отпусты, и – подалее от соблазнов — ушёл в геодезисты. Благо, с детства мотался по изыскательским партиям. Со всей семьёй мотался: вполне терпимой маманей, молчаливой сестрой, ненавистным папулей-геологом. Много чему научился, летними сезонами шастая по жёлтым советским пустыням. Овладел приборами, хорошо зарабатывал. Сколотил состояние, по тогдашним советским меркам немалое – десять тыщ!..
Но все, потным трудом заработанные деньги выудила жена-шалава. Та, что втихаря зачала и родила от бомжа, убедивши Великого в отцовстве. Убедила, змея! Благородный Великий принял. Признал спроста — евонное чадо!
Может, хотел верить. Может, любил. Какое-то время точно любил. — Слепой, глупый, великий Великий… а она, гомоза рыжая, тощая, огромноглазая, кривоногая, злая, странно влекущая, с осиной талией обалденная колдунья, убедила. И – моталась себе по врачам да родственникам. Вообще чёрт знает куда и зачем таскалась. Умеют лярвы подсочинивать. А он платил. Платил и платил. За всё платил…
Но очередной полевой сезон кончился. А с ним и деньги. Как жить-кормиться? Подался на экскаватор – ненавистное, жвачное, чавкающее железной челюстью со вставными зубами чудовище. Пластался вусмерть, домой приходил в робе, заляпанной мазутом, воняющей солярой…
А шалава возьми и заважничай, барынька. Стала Великому в любви отказывать.
Вонь – предлог убедительный. Даже рабочая, честная вонь, приносящая денежку в дом. Мылся Великий тщательно, но уже не очень к тому времени переживал высокомерное «нет». Так уже наянила змеюка, что закрутил романишко на стороне. И даже писал-воспевал, идеализируя-романтизируя совсем простую, милую бабёночку. Душечку без подлых запросов.
Змеюка унюхала. И – айда терроризировать ревностью! Чёрт знает откуда она взялась, ревность, на каких основаниях? Взялась да взялась. А сама такая ко всему распустёха оказалась! Рассказывал, чуть не плача:
«…выходит, красава, из ванной, – висят…
С правой руки сопля, из левой ноздри сопля. Висят, свисают…
Какой, на фиг, секс? С распустёхой-то!..»
Долго терпел Великий, терпел бессловесно… жалостлив был, да и долг свой осознавал. Понимал, как ни странно, вполне традиционно: муж ответственен за семью. И точка. Ну, потом выгнал, конечно. Изгнал змеюку. Когда открылась подмена. Когда разул ребёночек глазки во всю ширь-полноту, а глазки — чужие. Не великие, не вспученные, как у Великого, а узкие-узкие. Точь-в точь, как у южного бомжа. Не стал Великий оформлять развод, купил билет да и отправил вместе с «байстрючонком» к… матери. К родной матери.
***
Нозаписал в тетрадке. Похоже, о себе самом:
«Хороший человек всегда дурак. Всем мешает, даже самыми добрыми своими намерениями. Особенно поступками…»
***
А змеюка-то всё разом смекнула: жена есть жена, попробуй отвяжись, откажи в прокорме ребёнка! И – насела на «папашку»! Через суды насела. И долго ещё не оставляла в покое. На выбитые из простодушного дурня шиши моталась туда-сюда. Возвращалась, виновато и волнующе для Великого опускала глазки…
Провинциальная «скромница», явившаяся неясно откуда, но ясно куда и зачем, неуклонно требовала, требовала, всё больше требовала! И Великий давал. Пока мог, конечно. Пока денежка не иссохла…
А в итоге почти всё, что осталось от того «романа» со змеюкой сопливой — несколько стихотворений. Воспоминания о «мазутном» периоде любви, да ещё о великой пустыне отыскались в разодранном, как и вся земная жизнь Великого, «архиве»:
«…и я, как сокол на скале,
Сидел себе в Бетпак-Дале.
И я в Бетпак-Дале сидел,
Сидел, во все глаза глядел.
Как хорошо во все глаза
Глазеть в пустыню, в небеса, —
Во все!.. а то один болит
Весь день глазеть в теодолит.
Он крив, чудовищен, трёхног,
Больной фантом, он сам измаян,
Он здесь чужой, он марсианин,
Косящий диковато, вбок.
А рейка — полосатый страж,
Фата-моргана, джинн, мираж,
Дрожащий в зное… о скала!
О сокол! О Бетпак-Дала!..
И я в Бетпак-Дале сидел,
Сидел, во все глаза глядел…»
* * *
«Медленно мысль проползает людская,
Роясь в барханах зыбучих песков,
Как черепаха, уныло таская
Вычурный панцирь веков,
Где мозгов —
Как в черепах
Черепах.
Да и всё остальное
Тоже смешное:
Череп, пах…»
* * *
И ещё что-то бредовое. От пустынного зноя, наверное:
«…ты слышал, как монах орёт?
«Анахорет!.. Анахорет!..»
В пустыне камню-великану,
Глухому камню-истукану
«Анахорет!..» —
Монах орёт»
* * *
Обезьяна в себе
Орал, гордился возмужавший, эклектически нахватанный Великий, чванился — он, дескать, создал «ненаучное дополнение» к частной теории относительности! Зря орал. Относительно это было. И относилось лишь к вопросу о расстояниях. Причём, расстояниях не глобальных, а всего лишь к дистанции между М и Ж:
«От каблука мадамова
До яблока адамова
Всего один шажок:
Возьмёт за горло сученька
Горяченька, подлюченька,
Улыбкой подкаблучника
Разлыбишься, дружок…»
Потом, однако, разгордился – показал людям. Зря. Никого не восхитило. Порвал, как много чего. В итоге остались от «дополнения» обрывочки:
«…всё-таки человек – мутант. Видимо, некогда к «обезьяне» был «привит» дух горний, т.е. нечто истинно человеческое, Божеское. ЭТО было привито, как благородная веточка к дичку, к тёмной, белково-углеродний твари. Получился со временем мутант. Человек. Но светлое, божеское в человеке не мстит природе. Мстит – обезьяна. Женщина в некоторых моментах – та же обезьяна. Кривляется перед зеркалом, губы выворачивает, – «вспоминает»…
Обезьяна в себе»
***
Из «Максимок» и «наблюдизмов»:
«Бог есть то, что есть. Я есть то, чего нет. Однако, карабкаюсь…»
***
«Церковь сильна и стоит – Тайной и Красотой. Власть – Силой и Тайной».
***
«Бог есть то, что есть. Ты есть то, чего нет. Однако, скребись…»
***
«Муха, медвежонок на крыльях…»
***
«Страшные жуки… небо скребут!..»
***
«…ввертилёты…»
***
«Бог есть то, что есть. Мы есть то, чего нет. Однако, стараемся…»
***
«С большой буквы – Пьяный»
***
Рассказ после мясокомбината:
«Сперва показывали тёлку. Потом разделанную тушу. Потом колбасу.
Потом снова доярку…»
***
«Печность. Во избежание беспечности необходима печность.
Именно печность. Жаркость…»
***
«…с трудом, удивительно легко запомнил усвоенные дедом заветы отца…»
О чём сие? Неизъяснимо…
***
Неизъяснимое осеняло Великого, курировало, вело. Куда? Никто не скажет.
Но вот тоскливого идиотизма мирного свойства недоставало. И он, как человек проницательного ума, осознавал это. А всё равно сносило на пути буйные, невразумительные. Скорбел, каялся, писал заунывные плачи. И брутальные заплачки, и вои, и… чёрт ещё знает что!
«…до свиданья, жизнь, окаянная,
Прощевай, злодей собутыльник!
Здравствуй, утро моё покаянное,
Здравствуй, белый мой брат, холодильник…»
***
Жизнь его, промысленная где-то в горних сферах не иначе, наверное, как житие, змеилась и пласталась пыльным долом.
Ему была предначертана судьба юродивого или блаженного, коим внимают, чтут и превозносят, многозначительно трактуют слова, поступки. И даже создают иконы для вящего прославления.
Увы, жизнь не дотягивала до жития. Точнее, она была равновелика житию, но в каком-то очень уж диковинном изводе. Скорее всего, тянулись параллельно две эти линии – одна видимая и грубая, другая нежная и незримая. Простирались единосущностью в бесконечное нечто, и всё никак не могли пересечься.
То, что они где-нибудь пересекутся, факт для меня настолько несомненный, что бессмысленно напрягать читателя излишними уверениями.
По крупицам тут, в обломках эпоса о Великом, размечена лишь пунктирная карта жизни, в которой он жаждал мира, творчества, любви. Его ли вина, что жизнь постоянно оказывалась грубее истинных чувств, помыслов? А нужно ему было совсем немного. Гораздо меньше, чем остальным. Любил по-настоящему лишь истинно простое, и самое великое по сути: луга, рощи берёзовые, реки, горы…
Но и там лукавый подбрасывал грязные грёзы. О, Великий, Великий! Почему же не хранил тебя твой Ангел? Почему так трудно ты шёл через мир?
И сваркой глаза выжигал, и на огромном экскаваторе надсажался, да так, что без поллитры после смены заснуть не мог. И превращался в дебила, и писал злобное нечто, про долю-недолю земную. А зачем?..
Зачем надсажался, как дебил? Деньги. Ничего нового, просто деньги. Завёл жену, родился ребёнок. Ценные книги на чёрном рынке кусались так, что…
Да ещё, как назло, к тому времени пристрастился к настоящему чтению. Надоели грязные авторы, голодными шакалами кинувшиеся вдруг описывать все виды извращений, орально-анальные и прочие выкрутасы. Это уже разрешили, а настоящее всё ещё пребывало под запретом. Странные были времена.
Цензура, уже полусоветская, перманентно совершала невообразимую глупость – запрещала книги старых русских писателей, эмигрантов, философов. Даже поэзию эмигрантскую, не имевшую никакого отношения к политике, запрещала.
Когда зарубежные писатели спрашивали советских товарищей: почему бы не печатать востребованные книги, те отвечали с душевною простотой – с бумагой в стране напряжёнка. Зарубежные товарищи изумлялись: как, у вас нет бумаги, чтобы печатать деньги? Не печатали…
Над глупостью этой долго и горько смеялись. Все. Великий же молча и сурово решил задачу – пошел в УМС, кончил курсы, сел на экскаватор, где платили круто по советским меркам – от трёхсот рублей и выше. В итоге, остался творческий след. Увы, невеликий. Обрывочки:
На карьере, на закате…
«Будто бредит грузный варвар
Вгрызом в сахарны уста,
Будто грезит грязный автор,
«Пласт оральный» рыть устав,
Церебральный экскаватор
Дико вывихнул сустав,
И торчит, сверкая клёпкой,
И урчит, срыгая клёкот,
Будто грёзу додолбил
Засосавший вкусный локоть
Цепенеющий дебил…»
Индюк думал…
Дебил? Были признаки, были. Хотя… в какие выси порой заносило! Даже в ранние годы. Не каждого занесёт.
Когда Великий узнал в последние школьные годы, что стихи бывают не только длинные и противные, спросил обнадёженно: «А сколько, минимум, строк бывает для счастья?..».
Я ответил – «Три».
Объяснил, что есть в стране Японии Танкисты и Хоккеисты. Танкисты пишут пять строк, Хоккеисты три. Произведения в этом жанре называются соответственно «Танка» и «Хокку». Дал почитать антологию японской лирики.
Танкисты Великого почему-то не заинтересовали. А вот хоккеистами очень даже увлёкся. И много в том преуспел. Для начала составил коротенькое лирическое хокку с длиннющим названием. Кстати, не в последнюю очередь поразило Великого то, что названия у «хоккеистов» были порою длиннее самих миниатюр:
Проходя по шумному городу, вижу одиноко грустящую девушку
«Сердце сжалось от нежности.
Среди гвалта и сумасшествия, на опустевшй скамейке —
Русая тишина».
Я похвалил.
Великий вдохновился и – записал!..
***
Дико работоспособный, одержимый творчеством, да и любой работой, подворачивающейся, как водится непредсказуемо, через месяц принёс на погляд мешок трёхстиший, которые трудно было отнести к образцовому «Хокку», ибо ни слоговых, ни ударных законов там не соблюдалось. Да и тематика слишком уж не по-японски созерцательная… похабненькая выныривала.
Что тут попишешь? Русским был до мозга костей.
И всё же самое чудовищное из гадовых трёхстиший я запомнил. Именно в силу чудовищности и русскости. Да оно так и называлось: «Русское хокку»:
«Осень…
Усы падают
В суп…»
А ещё «Утреннее хокку»:
«По чёрной зеркальной глади
Белые скользят облака…
Кофе пью на балконе!»
***
А ещё «Ночное хокку»:
«Снял нагар со свечи. Зажёг…
Упёрся в чернозеркалье окна…
Непробиваема ночь».
***
Хорошо запоминать, иногда и записывать, пусть глупое, о быстротекущей…
***
На уроке литературы, при обсуждении «Главной Глыбы», романа «Война и мир», халдейша потребовала кратко сформулировать замысел и сюжет эпопеи.
Глупее, кажется, нельзя придумать. Великий придумал. – Зарылся пятернёй в рыжие, ещё вполне кучерявые волосы на бедовой своей головушке, задумчиво устремил карие, ещё не выцветшие глаза в старый дощатый потолок, по которому оборванной струной завивалась электропроводка, и рек:
«Болконский князь был старый
И молодой,
Седой владел – гитарой,
Младой – дудой…»
Докончить импровизацию, а по сути литературоведческую экспертизу не дал халдейшин визг: «Вон, вон из класса, сволочь!.. К директору!.. И ни с родителями, ни без родителей не появляйся больше… никогда, никогда!..».
Но директриса простила. Эта сочная дама, по счастливому стечению обстоятельств, недавно познакомилась на курорте с громадным папулей идиота. Воспоминания, видимо, остались не самые плохие, и она решила не омрачать их изгнанием отпрыска.
И Великий таки закончил школку. Пусть и с немалым опозданием.
Впрочем, периодически мстя за нелепо проведённые в заведении годы. Мстил стишками, часто несправедливыми:
«Высокая болезнь поверх барьеров
Приличия скакала каплей ртути,
Безрадостной без градусника. Груди
Без лифчика тряслись. Для пионеров
То было круто: завуч, молодая
Учительница первая, а вот,
Литературу, мля, преподаёт,
Грудями авангардными бодая…»
***
И ведь не просто закончил школку! Злил халдейшу ещё не раз. Что замечательно, полем битвы оказывался всё тот же Толстой, боготворимый халдейшей. И она его упорно впаривала, в нереальном для балбесов объёме.
Имела однажды неосторожность доверительно поинтересоваться у класса: какой из романов гиганта более всего люб? Класс настороженно молчал. Но Великий не мог упустить такой удачи, бойцовски вскочив из-за парты, разрубил тишь:
«Анна и Каренина!»
– «Что-о-о? – изумлённо завыла несчастная и, наливаясь багрянцем, простонала коронное – вон, вон, вон из класса!..»
Стон был охотно удовлетворён. Но уже на самом выходе, приоткрывши дверь, Великий, выдохнув неизбывное «Гы-ы-ы…», победно прохрипел на весь грохочущий, мощно резонирующий пустотами коридор:
«И – Вронская!..»
Это было настолько дико и ошеломительно для бедной учительницы литературы, что даже не стала выносить исторический факт на педсовет. А посему, посильно латая дыры, честно воспроизводим. Из песни слова не выбросишь. А это, согласитесь, была не худшая, хотя и сдобренная изрядной долею хрипотцы, песня.
***
Шли годы, шли… ползли, кувыркались, летели. Но людям свойственно, как это не прискорбно, стареть. В любое время года, века. Стареют, невзирая на скорость продвижения в пространстве-материи. Старел и Великий. Но стишки, строчки о всяком разном рождались, заполоняли бумажки, тетрадки…
Старел… а ровесниц своих вспоминал, иногда со слезой. И плакал, и пел, и воздыхал. Сожалел об утраченном. Якобы утраченном. Ибо любил всегда одну лишь только Тоньку. А она, сука, урыла в другую страну. Навсегда. И ранила Великого. Навсегда. Но он, сильно уже поветшавший, траченный, словно молью, жизнью,
выдал-таки, песнь. Гимн ровесницам:
«…уже не потянешь любую подряд
В театр, в подворотню, в кусты,
Про девушек наших уже говорят:
«Со следами былой красоты!..»
И выдохнул, и выдавил ещё:
«И всё равно я выпью – За!
За негу ног и милых рук,
За бесшабашные глаза
Климактерических подруг!..»
И ещё нечто… стоит всё-таки привести:
«Чарующее слово д е ф л о р а ц и я…
О, необыкновенные слова!
Мерещится какая-то акация,
Калитка, на головке кружева,
Волнуется всё это, несказанное…
Спросил я как-то девочку одну
По нраву ль ей такое слово странное?
И получил ещё одну весну
Невинную… считай – непреткновенную…
Люблю с тех пор лапшу обыкновенную».
Врал. Любил только Тоньку. Но врал…
***
Из Тетрадок:
«Игра слов. Восхищение, вожделение… какое чувство сильнее? Вожделеть женщину, значит – желать её, хотеть. Восхитить – похитить, т.е. украсть. Не восхотеть, а именно восхитить. Пожалуй, в последнем варианте «состав преступления» круче. Но если слегка изменить в заповеди: «Смотрящий на женщину с вожделением…» одно слово, если изменить «Вожделение» на «Восхищение», что получится? «Смотрящий на женщину с восхищением…»… – разве зазорно? Смотреть с восхищением – предосудительно? А ведь женщина не только предмет обожания (не путать с обожением), поклонения, но и – восхищения. Во все времена. Игра слов, батенька, игра слов…» – торжествующе ехидничал Великий. Любил это дело, гадёныш. Не всегда, но…
Нередко желчный, провокативный даже Великий.
***
Хоккеисты надоели Великому. Рогожный мешок с салфетками и обрывками бумаги, испещрённой трёхстишиями, пропал. Кажется, бесследно. Никто из доброжелательных собутыльников Великого, изредка подкидывающих мне с оказией старые салфеточки, а то и форматные листы бумаги, ничего не прислал из «японского» периода творчества.
Надоели хоккеисты? Увлёкся частушками. И, поскольку писал целыми ворохами, когда заводился, решил послать их на конкурс в Литинститут. Бедный, бедный… хотел сделать сюрприз, явиться вдруг однажды на пороге моего дома победителем, с лавровым венком на рыжей, кучерявой ещё башке. Эх, промахнулся…
Затесались в конкурсной рукописи частушки не шибко пристойные. Они заведомо не могли пройти советскую комиссию:
«Бывает нежное говно,
Бывает грубое оно…
О чём беседовать с любимой
Мне абсолютно всё равно».
***
Ничего, умный рецензент порвал бы втихаря. Но в рукописи были не одни лишь непристойности. Решил позаигрывать с уважаемым учреждением, отличавшимся даже при Советах некоторым либерализмом. Присовокупил частушку, якобы от лица разочарованной девушки:
«Мой милёнок, проститут,
Поступал в Литинститут,
В рифму врал, душой и телом
Торговал и там, и тут…»
«Индюк думал, да в суп попал» – вот уж это тот самый случай. Заигрывание было заведомо жалким. Да и плачевным в итоге.
После этого он слова доброго не сказал про «творческий вуз». Да и про девушек тож. Закурил горькую, дешёвую сигарету «Архар», побрёл восвояси…
«…и побрёл Дурак-Иван,
Дымом сыт, слезами пьян,
Поговорки поминать,
Камни во поле пинать…»
***
Довели до белого колена
Попинал камни Великий, попил-поел горькую… задумался. И решил в одно из ознобных похмельных утр: а с какого перепугу его, Великого, отвергли? А что сейчас вообще в моде, в фаворе?
И – зарылся в океан современной поэзии, где царствовали тогда метафористы, концептуалисты, куртуазные маньеристы… ну и прочий мутняк. Начитался, задумался:
«А что тут, собственно, выдающегося? Что сложного? Почему в фаворе? Нешто так не смогу? Смогу. Попробую, а там пойму – из чего эта хрень варится?..»
И попробовал. Склал, а потом сложил папку образчиков «современной креативной поэзии». Кое-что из той папки, почему-то под названием «Г…о» сохранилось.