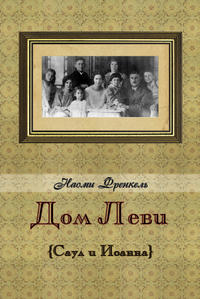
Дом Леви
Нет. Эдит не только мечта. Может, и мечта, но она успела укорениться в самой сущности моей жизни. Что скрыто в этой мечте? Радость, несущая отчаяние. Печаль, пробуждающая расслабленность, напряжение ожидания, слабые, слабее быть не может, ощущения радости. Движение жизни, охватывающее целиком душу! Любовь, вот что этим движет! Доктор Филипп Ласкер, что с ним происходит? Бедный. Он страдает от безответной любви.
До чего дошел? Овладевает мной чувство провала всей жизни. На основании чего? Эдит была мечтой моей юности, и я не смог от нее освободиться. Каждый юноша жаждет взойти на Хрустальные горы. И я жаждал. Но в жизни нет Хрустальных гор. Есть лишь печальная реальность. До чего жизнь становится пустой из-за неудачи в любви. Любовь лишь незначительная часть целой системы. Что же, искать верное соотношение между частью и целым? Поможет мне это? Да. Найди нечто реальное, дорогой, обычное! Обоснуйся на нем, и оно превратится в желаемое.
Ха-ха, слова живого бога! Теперь тебе стало легче? Жизненная философия вместо сущности жизни. Обелиск больному любовью. Нет, дорогой, доводы логики здесь не преуспеют. Это будет битва титанов. И нет никакой гарантии, что ты победишь.
Не могу. Не могу из-за внутренней слабости, лишающей меня всякого оружия защиты. Я болен любовью. Сияющий красотой день – встанет во всем своем великолепии. Будь мужчиной! Источник вырвался из твоей жизни, и его нельзя легко перекрыть. Но можно закрыть его тем камнем, который надо, в конце концов, сбросить с души.
Ты хочешь отказаться? Нет, не хочу. Ни от неудовлетворенной страсти, ни от того скрытого тонкого трепета нервов, это счастье, нет ему замены. Чего стоит реальность без всего этого – всего лишь серая и крохотная, впадающая в ересь, Филипп? Любовь направляет твою жизнь? Где же хваленый твой разум, – разум адвоката?
Я остаюсь верным себе. Жизнь это действие, но, быть может, эта деятельность подвержена прорыву? Нет разума без эмоциональной основы. И нет иррациональности, которая бы не выросла из реальности настоящей жизни. Нет жизненной реальности без любви. И нет любви, которая не оборачивается настоящей, действенной силой жизни.
Ну, теперь вроде бы стал умнее? Белла. Почему я не думаю о Белле? Белла была всегда. Но и Эдит была всегда. Что же, я стоял между ними обеими? Нет. Никогда. Никогда не чувствовал, что любовь к Эдит приносит боль Белле. Они, как две параллельные линии, не встречающиеся ни в одном уголке моей души.
Не лукавишь ли ты перед собой, Филипп? Нет. Белла мой добрый товарищ. Хотел бы я быть без нее? Нет, нет! Может ли человек отказаться от хлеба? Она – не мечта. Не тянет любовной тоской к себе, но она возле меня, и это намного больше. Я люблю ее. Она – твердая почва, на которой прорастает эта жизнь. С Беллой нельзя взмывать в небо. Эдит! Бог мой, может ли человек подниматься ввысь, если из-под ног его убирают твердь?
Ну, а теперь куда ты пришел, Филипп? К той же начальной точке. Взлетать ввысь. Вечная мечта юности. Хрустальные горы.
Нет, это не та начальная точка. Эдит и Белла – мечта и реальность. И они не сливаются. Ты ведь это знал всегда. Нет, дело в том, что они все же сливаются, дополняют друг друга. В чем тайна существования? Противоречия, противоположности, соединяющиеся в единое целое жизни, и кто преуспевает в этом? Я? Верно. Я должен преуспеть».
– Что с тобой, Филипп? Я вглядывалась в тебя. Ты ведь не дремал. Ты нырнул в тяжкие размышления. На лице твоем это было написано. – Белла рядом, черные глаза ее словно бы налиты тяжестью, напряжены, как перед плачем в еврейских народных песнях.
– Белла, – отвечает Филипп, – Белла, в стране Израиля мы вырастим поколение, как этот летний день. Светлые волосы, светлые глаза. Они будут юны, спокойны, безмятежны. Есть и такие евреи. Ты вглядывалась хотя бы раз в лица мадонн? Мы растим еврейских девушек, похожих на мадонн. Сотрем с их лиц любые тяжкие еврейские морщины.
Белла поднялась.
– Едем домой, Филипп, ты сегодня чужд мне. Я не понимаю тебя. Приближается вечер.
Филипп видит разочарование на лице Беллы, но ничем ей помочь не может. «Доедем до города, – думает он, – позвоню Эдит. Должен я еще сегодня выяснить, может все подозрения, просто глупости, кошмарный сон в летний полдень».
* * *Наступила ночь. Летняя ночь. Мгла простирается над тысячами зажженных фонарей. Город превращает тьму в свет, ночь – в день. Но в такую ночь люди ищут темные уголки, – на скамейках, между деревьями городских парков. Прячутся в стенах домов, в уголках коридоров. Иногда световая полоса автомобильной фары, проскользнув, обнаруживает скрывающуюся парочку, но это мимолетно, и они видят, оставаясь невидимыми. Ночь объемлет всех и вся. Тьма нашептывает. Обдает горячим дыханием.
«В такую ночь человек не может оставаться один», – размышляет Эдит. В саду розы раскрылись целиком. Запах роз острый и сладкий. Ночные бабочки летят к ним, присасываются к лепесткам, опьяненные запахом и тяжкой сладостью этой ночи. «Осталось еще десять минут. Я еще могу сообщить ему, чтобы не приходил. Но я хочу, чтобы он пришел. Вчера была точно такая ночь, как эта. И странно было, что как бы исчезли руки мясника, грубый голос, и хищный взгляд черных глаз. Все это вдруг оказалось неважным. Были мелодии, сопровождавшие пары, танцующие в красном свете. И было ощущение, что я внезапно проснулась как от летаргического сна. От чего это произошло? От вина, от мелодий, от этого человека. Утром я увидела все это в ясном свете и просто отчаялась. А теперь хочу, чтобы он пришел».
В доме зазвонил телефон.
– Эдит! – в открытом окне возникла головка Эдит. – Доктор Ласкер звонит, срочно хочет поговорить с тобой.
– Филипп? Ни в коем случае! Не сейчас, Фрида, скажи, что я вышла из дома, и ты не знаешь, где я.
«Фрида солгала. Это понятно даже по телефону. Ну, Филипп, теперь ты знаешь». Доктор Ласкер выходит из телефонной будки на улицу, рассеченную полосами света от фонарей, и смешивается с фланирующими по улице прохожими, занятыми пустой болтовней. Молодежь, проходя мимо, взрывается гогочущим смехом, обволакивает всех сигаретным дымом, осмеивает и иронизирует. Иногда ухо улавливает счастливые звуки, долетающие издалека, как отзвуки смеха. Подобно шелесту, они просачиваются сквозь толпу фланеров и натыкаются на человека, одинокого среди толпы.
«Какая тяжкая, давящая ночь. Как я попал в это толпище? Квартира моя пуста. Только не быть в ней одному, полной судебных дел о разных бедах. И что мне вообще до бед других? У меня свои беды. Лучше уже смешаться с этими тысячами незнакомых людей. Кстати, я голоден. Есть тут кафе». Филипп открывает двери. Громкоговоритель буквально орет ему в лицо:
Да, да, вчера под вечерЯ целовал ей плечи.Кафе набито битком. В углу сидят две дамы, можно к ним присоединиться.
– Не помешаю? Достопочтенные дамы, можно присесть?
Холодный взгляд и слабое подобие приязни.
«Пока подойдет официант, буду сидеть, как в гнезде скорпионов. Нет у меня терпения».
– Этот грязный еврей, – слышит он одну из дам, – не хочет ремонтировать квартиру, несмотря на то, что это положено нам давно.
Доктор Ласкер встает. Аппетит мгновенно улетучился. И снова он на улице.
«Что-то голова побаливает. Зайду купить лекарство». Напротив аптека. Филипп входит и выходит, на миг задерживается у витрины.
– Сладенький, почему ты один в такую ночь?
Женщина стоит рядом. Обтягивающее фигуру платье. Золотистого цвета распущенные волосы, глаза бесцветны и лишены выражения.
– Я плохо себя чувствую, дорогая. Поел испорченный суп. Весь этот город у меня в кишках, – отвечает ей Филипп, состроив приятное выражение лица, – еще найдешь этой ночью кого-нибудь, более здорового.
«И все же вопрос по делу: почему я один в эту ночь? Ну, хватит. Не хочу больше думать. Толпа пробуждает чувство одиночества. Если пойду по боковой, темной улочке, доберусь до скамейки. Таблетки снотворного – в кармане, какой великолепный выход: заснуть и ничего не чувствовать. Так и сделаю. Ночь для того и создана, чтобы спать». Глубокая тьма царит на улочке, только мерцают вспышки сигарет, шепотки, и смех. Филипп спешит. «Я удираю от самого себя. Хорошо, что есть у меня снотворные таблетки. Завтра все взвешу. Но не сейчас. Все, что можно обдумать и взвесить в эту ночь, относит в сторону отчаяния».
– Филипп! – в коридоре его дома стоит Белла, – я давно уже жду тебя. Ты вел себя очень странно после полудня. Я не могла найти себе места. Что там было с тобой, Филипп?
– Белла! – Здесь, в темном коридоре перед взором Филиппа – ее оголенное тело в траве у озера, ослепительного от солнечного света. Теперь он чувствует запах соснового леса. – Как здорово, что я нашел тебя здесь, в моем доме. Я ощущаю его надежность благодаря тебе.
Света они не зажигают. Филипп открывает окно. Голоса врываются снаружи. Слышен дикий пьяный хохот, вопли женщин, ругательства и звон трамваев.
– Белла! – говорит Филипп с печальной улыбкой. – Опять нам наигрывает большой город. Мелодия не мягкая, но такова мелодия нашей жизни. Симфония жизни, в которой существуешь только ты. Тебе это недостаточно, Белла? Что было там? Когда человек мечтает взобраться на Хрустальные горы, завершается это полным провалом. Больше не спрашивай. Поверь мне, в этом нет никакой нужды.
Летний день завершился. Город постепенно успокаивается. Ночь уже обнимает новый день. Еще несколько часов, и город проснется навстречу новому гомону.
«Я успокоился», – говорит про себя Филипп, стоя перед открытым окном. Белла погружена в глубокий здоровый сон. «Буря улеглась. И за это я ей благодарен. Был бы я писателем, как бы я изобразил этот миг? Летний день прошел. До чего спокойна эта ночь. Это покой после бури и перед новой бурей. Что мне в этот миг до всего, что прошло надо мной. Жизнь спокойна и уравновешена, когда дано взирать на нее сверху. Завтра мне надо будет закрыть окно и спуститься в город. Снова начнется жизнь, на которую нет возможности глядеть со стороны. Завтра я должен позвонить в дом Леви. Справиться о здоровье Саула. Как прошла его поездка к дому деда. Может быть, и Эдит поехала туда. Встала с утра и сама поехала. А Фрида, может, и вправду не знает. И все это было игрой чувствительных нервов в летний соблазняющий жаркий день?
Глава четвертая
Черный автомобиль проглатывал пространства. Города и местечки, шоссе и леса, усадьбы и села. И когда он добрался до маленького городка в Восточной Пруссии, где проживал дед, казалось, что автомобиль поглотил не только пространства, но и сотни лет исчезнувшего в прошлом календаря.
Древняя стена и две высоких башни, серые от многих лет, наводят страх на приезжих. Городок словно погружен в глубокий сон, но за занавесками торчат физиономии жителей, и черты их лиц подобны чертам рыцарей, вооруженных мечами и готовых каждый миг вскочить на коней и скакать навстречу чужеземцам, чтобы узнать, с какой целью они явились сюда.
Вот и городской рынок. В центре его – старый колодец. Три дерева, согнувшихся от старости, скрипят на ветру. Кажется, миг назад сидел здесь путник и вырезал на стволе одного из деревьев имя любимой, до того, как двинуться дальше в путь, и поприветствовал господина Пумпеля, который, несомненно, еще тогда, в те давние дни, стоял у своей лавки, продавая иголки, нитки и еще кое-какую мелочь. И точно, как сейчас, он посасывал трубку, и весь его облик как бы говорил – «я тут представитель Господа Бога, и если не сотворил небо и землю, этот городок, несомненно, я сотворил». И вправду трудно себе представить, что этот городок мог существовать хоть один день без Пумпеля, и вообще сможет когда-либо существовать.
Тут же полуразвалившийся, серый домик муниципалитета. Вход в него в высоте стерегут два Ангела, держащие в руках правила нравственного поведения жителей городка, начертанные кусочком корунда на вечные времена:
Храни непорочность и веру до самой могилы своейИ никогда не сбивайся с Божьих путей.– Добро пожаловать! Добро пожаловать! – Дед, домоправительница Агата, работник усадьбы лысый Руди приветствуют громкими голосами. Никто из них не интересуется чужим ребенком. Но все же его прижимает Агата к своей груди, которая, по словам Бумбы, сделана из мягких перьев.
– Добро пожаловать! – дед высок, худ, прям спиной. У него огромные пышные усы, походка марширующего на военном параде, а смех сотрясает стены и посуду на столе.
Дед – выходец из богатой купеческой семьи. Много поколений назад пришли его предки в Германию. Открыли в городке небольшую лавку вязаных изделий. Уже тогда, будучи из среды притесняемых, замкнутых в гетто ашкеназийских евреев, семья их пользовалась особыми привилегиями. Жили они в условиях свободы и покоя, сыновья получали образование, приобщались к новым идеям, быстро отошли от еврейских традиций, избрали образ жизни высшего германского общества, женились на немках, и даже черты лица у сыновей изменились – даже внешне они желали отрешиться от малейшего намека на еврейство: обернулись блондинами, светлоглазыми, рослыми.
Дед был строптивым в молодости. Принес много хлопот уважаемой семье. Даже внешне отличался от остальных сыновей. Рыжая его шевелюра была всегда растрепана, а с возрастом он украсил физиономию пышными усами огненного цвета, да еще несколькими шрамами от шпаги по обычаю университетских студентов тех дней.
Малые дети спать не дают, а большие дети жить не дают – с ними большие беды – вздыхала мать, глядя на этого сына. Он же ухитрялся время от времени занимать жителей городка своими шалостями, пока не совершил нечто, совсем из рук вон выходящее: был послан купить Тору в ближайший город, а занялся фланированием мимо окон некого института благородных девиц. С цветком в петлице, тростью в руке, огненными усами, подмигивал краснеющим девицам, украдкой выглядывающим из-за штор. Наконец пленил одну из них, но познакомиться было невозможно, ибо красавица была закрыта за крепким замком и стенами, неприступными, как старые девы.
Но дед – ого! Никогда не отказывался от того, чего страстно желал достичь. Подкрутил усы и поднялся в вагон поезда, в котором ехала на каникулы к родителям избранница его сердца. Родители ее были весьма зажиточными людьми. На целый час уединился с ней дед, и это был большой скандал! Быстрый суд родителей с обеих сторон обязал их немедленно сыграть свадьбу, тем более что сватовство в те годы было делом привычным.
Но дед – ого! Дед хохотал, да так, что тряслись стены. Что это еще за разговоры? Что я такого ей сделал? Только узнал, что из-за штор она красивей.
Надо знать, что в те дни женщины начали ездить по улицам города на трехколесных велосипедах, разговоры о правах женщин носились в городской атмосфере. Дед, естественно, был мужественным борцом за эти новшества, а так как дело той девицы не давало ему покоя, завершил эту проблему одним махом, собрал свои пожитки и исчез на многие годы. Боясь гнева Божьего, члены семьи опустили головы. Но дед? О, дед! Он вернулся через годы в свою скорбящую семью, с цветком в петлице, покручивая усы и хохоча во весь голос, как будто ничего не случилось. Где он шатался все эти годы без гроша в кармане? Странствовал. В то время еще можно было переходить от одного ремесленника к другому, из города в город, ну, в общем, также от девушки к девушке. Дед изучил ремесла и зарабатывал трудом своих рук. С тех пор дед выработал свое определенное мнение о жизни. Тост его был таков:
– Сама реальность, друзья, сама жизнь, разве это не счастье?
Вернувшись в свою семью, он сумел навязать ей свою философию жизни, получил наследство, открыл свое дело и решил построить дом. Короче, решил стать, как все нормальные люди. Семья выбрала ему именно такую жену, какая, по мнению членов семьи, могла вернуть его на путь истинный. Привезли ее из Южной Германии, из образованной семьи. Отец ее был профессором анатомии, и всю жизнь резал трупы. Он овдовел в молодости, и единственная дочь должна была заботиться о нем все годы. Жили они обособленно. Жалюзи их дома были всегда опущены. В доме стоял слабый трупный запах, который шел от одежды профессора.
Они были добрыми евреями, несмотря на то, что несколько усовершенствовали заповеди праотцев по своему пониманию, и к Богу пустыни, мстительному Богу воинств, присовокупили дух гуманизма, идеи совершенствования мира.
– Религия, – говорил профессор, морща лоб, это, в сущности, мораль, цель которой укротить человека. Вожделения его, – вот корень зла. Сдерживание чувств – главное! Это приведет к исправлению мира. Это и есть Мессия, который должен явиться в будущем. Человек, которым управляют страсти, подобен животному. Может ли животное управлять миром? Надо уметь обуздать свои страсти, только так человек станет человеком.
В этом духе воспитывалась бабушка, всегда окруженная книгами и произведениями искусства. Она играла на фортепьяно. Вела аскетический образ жизни по заветам отца, никогда не повышала голоса. В Бога верила всем сердцем. Религия была нирваной в ее, можно сказать, одноцветном существовании. В нем можно было освободить вздох, скрытый в сердце, и запретную надежду, связанную узами воображения. Все шесть дней Творения стыли в сумрачных комнатах дома. Только в день Шестой, в пятницу, поднимались жалюзи, открывались окна. С раннего утра приходили служанки убирать и все начищать до блеска к субботе. Из кухни доносились запахи кушаний, наполняя ароматом весь дом. В столовой бабушка ставила белую посуду на стол, заставляла все углы цветами и наряжалась сама. В субботний вечер профессор приводил гостей, холостяков или вдовцов, как он сам. И бабушка зажигала свечи и молилась, а профессор благословил вино. И так начинались беседы о религиозных заповедях. Гости были все мужчины, и бабушка единственной среди них женщиной. И все уделяли ей внимание, и даже отпускали комплименты в ее адрес. Бабушка не была красивой, черты лица ее были хмуры, глаза холодны, и вся она была как бы зажата в себе. Была ревностной чистюлей, ходила, шурша шелковыми платьями. Деду она понравилась, хотя и с некоторыми оговорками.
«У нее лицо, – думал про себя дед, – словно она все дни жизни пробовала только кислые лимоны. Не понимала, очевидно, что жизнь подобна сочному яблоку. И я намерен вгрызться в него всеми зубами».
Но дед ошибся. Бабушка не согласилась вгрызаться всеми зубами, она привычна была лишь пробовать. И женитьба получилась не очень удачной. И тогда они переехали в столицу. Дом был просторным и светлым. И громкий смех деда разносился эхом между стенами, и натыкался всегда на бабушку, которая ходила среди комнат – выпрямившись, серьезная, шуршащая шелковым платьем. И дед постоянно спрашивал себя «что мне делать с этой женщиной, прямолинейной и педантичной до скуки?» И бабушка тоже не знала, что ей делать со своим диким, взбалмошным мужем. Дед решил стараться не слишком с ней сталкиваться в разговорах, и так продолжал свою жизнь добродушного мота, хохочущего, побеждающего и весьма успешного в бизнесе.
Дед не пошел путями праотцев. Открыл дело, основал металлургическую фабрику. Вагоны привозили сырье из шахт для доменных печей фабрики. Тут резали раскаленное добела железо, вновь плавили, и изготовляли из него различные детали. Германия тогда вооружалась, готовясь к Первой мировой войне, и работы на фабрике было невпроворот. Дед, быстрый и смекалистый, знал, как экономически организовывать работу. Это был его мир. Его царство. Тут он развернулся во всю силу! Тут он ощущал пульс жизни, между пылающими печами и кувалдами. Тут он стоял между рабочими с почерневшими лицами, покрасневшими глазами, и всегда был с цветком в лацкане пиджака, подкрученными усами, зная в лицо и по имени каждого рабочего, готовый пожать руку каждому, без всякой разницы в чине и или сословности. Дед был большим патриотом Германии. Почему бы нет? Дела процветали благодаря кайзеру Вильгельму, чей портрет висел везде, в залах фабрик и в конторах. Но дед знал и понимал душу рабочего. В те дни большинство рабочих было членами социал-демократической партии, и деду это вовсе не мешало.
– Наоборот, почему бы нет? – говорил дед. – Был бы я рабочим, тоже вступил бы в эту партию. У каждого – своя правда.
Когда рабочие объявили забастовку в связи с повышением цен на пиво, дед их поддержал. Это случилось Первого мая. Рабочие собрались на митинг в сосновой роще, пригороде Берлина. Там был трактир, хозяин которого поднял цены на пиво накануне праздника, с двенадцати пфеннигов на тринадцать. Рабочие восстали и объявили забастовку.
– Первого мая никто из сознательных рабочих не будет пить пиво!
Партия повела переговоры, пришла к компромиссу и тем спасла праздник. Хотя бокал пива и будет стоить тринадцать пфеннигов, но два бокала – только двадцать пять пфеннигов. Компромисс был принят. В день праздника рабочие пили много пива. И каждый второй бокал сопровождался ощущением великой победы.
– Это я понимаю! – сказал дед, услышав об этом деле. – Это я понимаю. Партия в порядке!
Так дед проводил шесть дней недели: в поездках, суете, в делах по горло, но в субботний вечер возвращался домой. Бабушка зажигала свечи, празднично одевала двух маленьких сыновей, готовила в изобилии вкусные кушанья, и когда она простирала ладони над свечами, лицо ее было мягким, щеки становились пунцовыми в колышущемся пламени свечей, и глаза становились мечтательными. Такой она нравилась деду. Он даже умерял громкость голоса, говорил с мягкостью, и был мужем, как все мужья, и отцом, как все отцы. Когда он был сыт, и сердце его было смягчено субботним вином, садился он в кресло-качалку, сажал на колени своих двух сыновей и рассказывал им сказки и истории, какие лишь он умел рассказывать. Обычно он не очень ласкал и баловал малышей. Они воспитывались в духе матери, и по его мнению, были слабыми и бледными, и не вызывали в нем большого интереса.
– Почему? – спрашивал он. – Почему они не шалят, не буйствуют, не ходят грязными, как это бывает у детей! Почему они всегда чистенькие, аккуратно одетые, и лица у них святые, словно только их вынули из вод после крещения? Материнская кровь!
И это был жесткий приговор, но в субботние вечера все выглядело по-иному. Бабушка наигрывала на фортепьяно субботние песнопения, и умела их петь на священном древнееврейском языке, и голос у нее был очень приятным. Сыновья тоже выучили эти песнопения и подпевали матери. А дед? Дед слушал и таял от удовольствия.
Он также любил отмечать в лоне семьи праздники Израиля. Во время главных праздников он оставлял фабрику на несколько часов. И вместе со всей семьей ехал на карете в синагогу. Свою взлохмаченную шевелюру он прятал под цилиндр, в руках держал трость с серебряным набалдашником. Кони были белые, кучер одет в форму, жена в праздничных одеждах, и строгое выражение ее лица было к месту, дети светились чистотой, – в общем, семья, вызывающая уважение. «Х-ммм…», – дед напевал в усы, демонстрируя окружающим, кто он.
Ехали они в синагогу, где можно было разговаривать с Богом евреев на немецком языке. Молитвы были написаны на иврите и немецком. На амвоне властвовал кантор, мелодии молитв были приятными для слуха, и дед был погружен в атмосферу праздника. И когда кагал запевал «Аллилуйю» – «Хвалите Бога», – дед подпевал всем сердцем. В завершение читал с большим прилежанием молитву за здравие кайзера, которая была отпечатана в конце молитвенника на немецком языке. Он был очень доволен собой и тем уважением, которым его окружали. В завершение давал щедрые чаевые служке, который кружился вокруг него, садился в карету вместе с семьей, просветленной и очищенной праздником, и умиротворенно ехал по широкой липовой аллее, кланяясь налево и направо, радуясь праздникам Израиля.
Так текли дни жизни, так шли годы. Так состарилась бабушка, выросли сыновья. И только дед остался дедом, шагая по жизни смеющимся победителем. Кто мог устоять перед такой все пробивающей силой жизни? Дети пошли своей дорогой. Они любили мать и краснели при виде шумного показного жизнелюбия отца. Они вели себя сдержанно, больше всего любили чтение книг. Первенец подался в город, где родилась мать, осел там, стал исследователем древних языков. Не женился, был чужд жизни и странен в поведении. Второй же сын все же унаследовал в определенной степени характер отца, – но даже этого малого было достаточно, чтобы весьма удивить семью. Он пошел служить в армию, был послан в городок на восточной границе Германии и вернулся оттуда семейным. Кто его жена? Из какой она семьи? Невозможно было от него добиться ответа. Слухи ширились и расцветали. Приданого она не принесла, родители ее даже не приехали познакомиться. Бабушка умоляла: «Говори! Кто? Что?» А ему, сыну, просто наплевать. Стоит на стороне жены, и не дает никому ей докучать. Она была невысокого роста, нежная обликом, черноволосая красавица, производила впечатление добропорядочной женщины, воспитанной и приятной в обращении. Но глаза ее были необыкновенными, явно изменяющими воспитанному и располагающему к симпатии облику. Они были черными, поражали блеском. Из-за них бабушка ей никогда не верила. И хорошо, что приказала долго жить сразу же после свадьбы – много страданий испытала она от своей неприкаянной невесты.