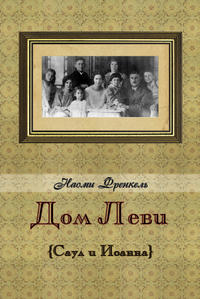
Дом Леви
Но Гейнц не подходит к радио, а все следит за Хейни, держа в руке письмо.
Ужас, ужас… кричал он тогда, словно хотел разбудить мертвых. Надо сохранить фабрику, увеличить ее, расширить. Ужас шествует по улицам. И только богатство дает безопасность. Вечером он пойдет на встречу с Функе. Встреча с ним должна предшествовать встрече с Эрвином и Гердой. Да, ужас… Быть может Эрвин пророк, не знающий, о чем пророчествует. Эмиль Рифке! Каприз Эдит еще спасет нас… Глупости! Не буду искать защиту под прикрытием ножей этих мясников. Дом мой еще существует, дом всех наших поколений. И дом этот существует благодаря фабрике. Если она замолкнет, замолкнет и дом. Бог мой! Я же обещал отцу быть к обеду. Нет, не вернусь домой. Не расположен я сейчас к серьезным разговорам. Позвоню, скажу, что занят. Пойду праздновать рождение сына у Герды. «Праздновать!» – Гейнц смеется. «Поеду к Марианне. Уважаемый отец, хотел бы я видеть свет твоего лица, когда я подниму к тебе трубку и сообщу: отец, я еду к Марианне. Ее я купил за весомую цену. Она дорого продается, уважаемый отец. С тех пор, как ушла Герда, я знаюсь только с продажными женщинами. Сегодня вечером я выйду на покупку новых друзей. Они также дорого продаются. Но они обещали мне защиту фабрики и дома, а тебе – твой покой и верность твоим жизненным принципам».
* * *Снова подают голос гудки. Закончился обеденный перерыв. Хейни первым пересекает двор в сторону литейного цеха. У входа он останавливается и обращает лицо к дождю, словно хочет получить благословение, прощаясь с дневным светом. Рабочие длинными шеренгами текут в ворота, возникают между домами. Литейщики исчезают в темном зеве литейного цеха. Фабрика возвращается к деятельности. И снова хаос, суматоха, беготня во дворе. Трубы выбрасывают клубы дыма, скрежещут краны, огромный молот гремит, вздымая кувалду. Гейнц остается у окна. Смотрит на лихорадку работ; нельзя, нельзя, чтоб все это замерло!
Глава шестая
В общем-то, улица не привлекает внимания. Трамваи здесь не проходят. У больших автобусов здесь нет остановок. Улица боковая, дома обычные для большого города, высокие, серые, запыленные. В них живут рабочие, мелкие торговцы, народец, зарабатывающий на жизнь трудом своих рук, но с честью. И все же эта скромная улица известна по всему городу, да и по всей стране. Среди этих серых домов скрыто здание еврейской общины. В утренние часы на улице много шума и движения. Евреи собираются со всего города – из еврейского квартала и кварталов богачей, в дорогих и простых одеждах, молодые и старики, матери и отцы, бородатые с ермолками на головах, без головных уборов, бритые. Евреи с чемоданами в руках приезжают из маленьких городов. Толпятся в воротах серого дома, входя и выходя. Сидят на скамьях вдоль длинных коридоров. Беседуют друг с другом о бурных и мрачных событиях в их жизни. Эти скамьи объединяют многих и разных с их различными делами: проблемами религии, налогов, разводов и обручений, похорон и обрезаний, советами в поисках работы. Но в последнее время прибавились новые дела: судебные тяжбы по поводу оскорблений, незаконных увольнений с работы лишь по одной причине – еврейского происхождения, просьба совета в связи с обанкротившимся делом и заработками, которые уменьшаются день за днем. На столе Филиппа – горы папок с жалобами. После победы нацистов на выборах, страну буквально смял вал издевательств. В небольших городах Пруссии, окруженных крестьянскими селами, возбужденными подстрекательством, банды хулиганов сожгли синагоги маленьких беззащитных еврейских общин. Когда этих бесчинствующих молодчиков привлекали к суду, Филипп ездил, как обвинитель со стороны евреев.
Послезавтра ему предстоит такая поездка в один из прусских городов. Пока в стране еще существует закон и порядок! Филипп иронически улыбается и закрывает одну из папок. За окном – непрекращающийся упрямый дождь. Филипп не очень хочет ехать. «Справедливый приговор» постоянен. Пьяные хулиганы отделываются штрафом, и спесивый судья цедит слово «евреи», словно выплевывает ядовитую таблетку, дружески подмигивает вожакам хулиганов, сидящим на скамье подсудимых. А после суда… ты покидаешь судебный зал в сопровождении уважаемых членов общины, что «выиграли» тяжбу. Идешь с ними по улочкам этого городка. Из окон выглядывают с презрением враждебные лица, детки свистят и сопровождают вас ругательствами. Идешь по улицам, кривым от старости, и вдалеке вздымаются зубцы развалин стены и башни рыцарских времен Пруссии. В старом колодце шуршит ветер, словно рассказывает историю дней старины, когда этот колодец был отравлен евреями. И ты ощущаешь, с каким вниманием жители городка прислушиваются к этому шороху. С тобой рядом шагают евреи, лица которых изрезаны и подавлены тревогой, ведут они тебя к сожженной синагоге, старому зданию, почерневшему от огня, такому же древнему, как старинные башни. Рядом с синагогой кривой покосившийся дом местного раввина. И снова ощущение, что ты остолбенел от страха, стиснут и зажат крыльями мыслей о будущем. Евреи рядом с тобой, «выигравшие» суд, простирают руки к обгорелым стенам.
– Погромщики вернутся. Они не будут наказаны. Это что, был суд? Надо бежать отсюда, пока еще есть время.
– Бежать? Куда? – спрашивают в изумлении. – Человек оставит свою страну, свою родину, могилы предков?
И ты говоришь: уезжайте в страну Израиля. Потрясение в их глазах. – Страна Израиля? Святая земля, легенда праотцев. Это – праздничная молитва. Страна Израиля это не реальность.
Ты указываешь на обгорелые стены синагоги, на башни, угрожающие издалека: «А это что? Далекое прошлое? Легенды праотцев? Часть молитв о прощении? Или это реальность из поколения в поколение? Спасайте свои жизни, пока это возможно. Евреи, спасайте свои жизни». Они тебя не понимают, и все повторяют, как испорченная пластинка: «Человек не бросает свою родину. Сейчас – дни кризиса. Они пройдут».
Так прошли у Филиппа несколько судов в городках, и таким образом завершились. Так было вчера-позавчера. Так будет и послезавтра. Дождь за окном. Смотрит Филипп на порывы дождя и вздыхает. Белла рядом закрывает пишущую машинку.
Час поздний, последние посетители покинули офис. Уборщицы начали свою работу. Звуки сталкивающихся ведер и шорох метелок долетает в кабинет. Они остались единственными из множества сотрудников. Филипп слышит стук крышки пишущей машинки, откладывает папку и смотрит на Беллу. Руки ее остались на крышке, чего-то ожидают. Лицо ее необычно бледно. «Что-то у нее случилось», – думает Филипп. – «Из летнего лагеря она вернулась совсем другим человеком. Мы с ней и не встречались с тех дней. Она отказывалась прийти ко мне в дом, находила причины для отказа. Что с ней произошло?»
– Сегодня вечером, Белла, – говорит он, как можно мягче, – Тебе надо немного отдохнуть. Пошли ко мне. Давно мы не были вместе, и не вели, как раньше, доверительную беседу.
На улице стучит дождь, пальцы Беллы барабанят по крышке пишущей машинки.
– Сейчас, – говорит она, не глядя на Филиппа, – я хочу поговорить с тобой сейчас.
– Сейчас я тороплюсь, Белла, утром задержал меня Отто своей долгой беседой. Я обещал господину Леви прийти к нему в два часа на обед. До двух я должен там быть.
– Сегодня ты туда не поедешь, Филипп.
– Но Белла, что случилось с тобой? Я обязан ехать в дом Леви, что бы ни случилось. У меня есть срочные дела с господином Леви. Ему нужна моя помощь. Послезавтра я должен отлучиться на несколько дней. Будь умницей, Белла. Встретимся вечером.
– Сейчас! – отвечает Белла странным жестким голосом. – Я должна с тобой поговорить.
Лицо ее продолжает быть бледным, в глазах ее какая-то упрямая печаль. Филипп встает со своего места, приближается к ней, берет ее голову в ладони:
– Белла, что с тобой?
– Филипп, я…
Доктор Ласкер испуганно смотрит в ее бледное лицо. Возвращается к своему столу, звонит по телефону в дом Леви.
Улица длится бесконечно. Молчаливо идут по ней Филипп и Белла. Дождь продолжает хлестать. Филипп раскрывает зонтик. Белла прислушивается к шуму дождя, к темным каплям, падающим на ткань зонтика. Лицо Филиппа замкнуто. Она не искала прикрытия от дождя под его зонтиком. Струи дождя напрягают ее лицо и затрудняют дыхание. В карманах ее куртки руки прыгают, как две рыбы в сети. У господина Ласкера рядом, раскрывшего зонтик, руки в кожаных перчатках, черная шляпа, черное пальто, а девушка возле него – в одежде молодежного движения, с обнаженными коленями и непокрытой головой. Белла очень огорчена этой разницей в стилях одежды. «Неподходящая мы пара» – никогда не возвращались эхом в ее сердце эти слова сейчас, на улице под бесконечным дождем. Слова эти звучат без конца рефреном в ее голове. Она идет рядом с Филиппом, в смятении, думая про себя: «Мелочи эти – зонтик, перчатки, шляпа – просто поглощают прямо перед моими глазами человека, и мне не удается спасти его настоящий образ».
И в такт дождю, стучащему по зонтику, рифмуется строка – «Неподходящая мы пара» – с пасмурным днем, с согнутыми фигурами людей, проносящихся мимо Беллы, со скорбью ее души, которая усиливается с каждым шагом. Наконец-то – небольшая столовая забита народом. Рабочие проводят здесь обеденный перерыв. Суетятся, жуют, говорят. Запахи пива, жареного на масле картофеля вызывают у Беллы позывы к рвоте. Молодая официантка скользит между столиками и наслаждается всеобщим вниманием, намеками и шутками в свой адрес.
Филипп погружен в изучение меню.
Официантка подает им по тарелке супа. Пятна жира плавают на его поверхности. Белла с трудом сдерживает тошноту.
– Ты почему не ешь, Белла?
– Я себя плохо чувствую.
– Ничего опасного нет. Так должно быть, маленькая моя Белла. В болях рождается новая жизнь. Только не пугайся, Белла.
Белла смотрит на дождь, превратившийся в ливень и яростно барабанящий в стекла.
«В болях!» – впиваются в нее слова Филиппа.
Официантка приносит большие ломти мяса. На Беллу она вообще не обращает внимания, господина же обслуживает с великой преданностью. Белла встает, проходит между столиками, направляясь к зеркалу в коридоре, пугается, взглянув на себя. Мокрые волосы взлохмачены, бледное лицо с синими мешками под глазами. Проходит человек по коридору, бросает на нее удивленный взгляд, она возвращается к Филиппу.
Он улыбается ей, отодвигает в сторону тарелку и обращается к ней отеческим и в то же время деловым тоном.
– Ну, Белла, мы долгое время колебались. У каждого были свои сомнения. Маленькая моя Белла, ты так молода, и все же стань женой человека. Моей женой. Сделаем все возможное, чтобы жизнь наша была счастливой.
Белла молчит, глаза ее блуждают в пространстве столовой, ни на чем не задерживаясь.
Филипп гладит ей руки своими холодными руками. Белла испугана.
«Что это со мной? – снова упрекает она себя. – Ну, не виноват он, что холод проникает даже через перчатки. Но почему у него такой отеческий голос? Зачем все эти деловые разговоры? Почему он просто не говорит, что рад ребенку, который должен родиться, счастлив и уже любит его?»
Глаза ее движутся вслед официанткой, скачущей между столами.
«Эта женщина со своим похотливым смехом, несомненно, опытна в поведении женщин. Была бы в моем положении, знала бы как одолеть мои страдания».
Беллу пробирает дрожь: впервые тверда в мыслях, словно уже приняла решение. Филипп смотрит на сжавшиеся ее брови.
«Тяжко ей. Еще не созрела брать на свои плечи такую тяжесть. Только большая любовь в силах помочь ей одолеть то, что ей предстоит. Смогу ли я дать ей такую любовь? Даже глубокая вина не уменьшает любовь, малышка Белла». Филипп вглядывается в бледное ее лицо. «У нее новое лицо. Она так томна в своей бледности. Бывают и черноволосые Мадонны. Мне надо сделать все возможное, чтобы она не ощутила колебания в моей душе.
– Белла, откуда эта печаль в твоем лице? Я понимаю, это поспешно, это неожиданно. Еще нет у тебя желания быть женой. Жизнь молодежного движения тебе ближе, и мечты твои охватывают пространства. Каждый молодой человек хочет взойти на Хрустальные горы. Но, детка моя, следует все же чувствовать твердую почву под ногами. Поверь мне, Белла, поверь, стать источником новой жизни, нового существа, это великое дело, очень великое дело.
Белла чувствует его взгляд, просящий ответа. Она видит его, попивающего черный кофе, человека, ищущего облегчения и хотя бы короткого покоя. Запахи душат ее. Смех, голоса, жевание, глотание не дают ей раскрыть рта. Снова она обращает взгляд в окно, на влажную, пасмурную улицу.
«Стать источником новой жизни… Жизни! Знала бы, что заключено в этих словах. Тысячи скорбных минут, тысячи болей, тысячи пугающих снов, и все в этих нескольких таких легких словах. «Дать жизнь!» Преследуют меня эти два слова. Не предполагала, не просила, но они приходят со всех сторон, от каждого намека, детского смеха на улице, плача младенцев в домах. «Жизнь». Слово производит во мне свое действие, не отставая, не давая передохнуть».
– Белла?
Она снова почувствовала холод его руки. Волнение, которое она сдерживала в себе в течение многих недель, неотступные колебания наедине и на людях, сейчас вырвались наружу и сдавливали ее голос. Она смотрит на Филиппа скорбным взглядом, говорит слабым голосом:
– Правда в том, Филипп, нелегко мне об этом говорить, – ты отказался от правил молодежного движения. Так просто не меняют жизненный выбор. Филипп, одно дело абсолютно ясно, мой ребенок не родится в Германии. У меня одно твердое желание: мы должны начать готовиться к переезду в страну Израиля.
– Но, Белла, что за спешка? Будь разумной, детка. Мы не можем прямо сегодня или завтра запаковать багаж, и оставить все дела, как беглецы, спасающие свою жизнь.
– Другой будет выполнять твою работу, – прерывает его Белла жестким голосом, – мой ребенок не будет рожден здесь. Филипп, пришел твой черед паковать вещи.
– Но, детка!
– Ты должен запаковать свои вещи, – Белла стоит на своем.
Филипп смущен, гладит ее руку.
– Ты нервничаешь, Белла, и это понятно. Но успокойся, Белла, успокойся. Я ведь не говорю, что мы будем вечно в Германии, не торопясь, завершим все наши дела, и уедем. Может, здесь все успокоится. Я не могу сейчас оставить Германию. Как на меня посмотрят люди, если я покину все в страхе, и буду заботиться лишь о себе?
– Нет, – кричит Белла, – сейчас! Сейчас время уезжать. Год за годом ты читаешь проповеди другим, доказывая, что следует оставить Германию, а сам откладываешь свой отъезд. Почему? Есть что-то, не дающее тебе решиться? Я всегда это чувствовала. Есть нечто, что стоит между нами, вне нас. Там, у озера, в тот летний день, я знала, чувствовала, что…
Белла неожиданно замолкает, Филипп не отпускает руку.
«Надо ей рассказать об Эдит. Она должна знать. Но мне стыдно признаться, что я столько лет беспомощно влекусь за этим чувством, приносящим мне боль, за этой иллюзией, за каким-то слабым жалким шансом победить факты и добиться жизни, в которой – любовь и счастье. И как она сможет понять, эта наивная девочка, что она моя жена, а страсть моя обращена к другой женщине? Нет смысла открыться ей. Зачем и ее вовлекать в эту ловушку?»
– Белла, я подумаю, что можно сделать. Для меня это все неожиданно.
– Обещай мне, – говорит Белла, – обещай!
– Детка, я прошу тебя, – Филипп говорит решительно, – я не могу принять скороспелые решения.
Белла пугается этой решительности в его голосе. Филипп видит этот страх в ее скорбном взгляде, приближает свою голову к ее голове и говорит мягким успокаивающим голосом:
– Маленькая Белла, пойми, в мире – растить и воспитывать детей – высшая цель человека. Поверь мне, нет более великой цели, чем эта. Прошу тебя, не смешивай разные области, и нет разницы в том, где ребенок родится. После рождения надо будет взвесить наши шаги.
– Нет! – столь же решительно отвечает она, – нет! Мой ребенок не родится в Германии!
Филипп не успевает ответить, как с треском раскрывается дверь, двое рабочих, мокрых от дождя, взъерошенных от ветра, взволнованных, держат в руках газету, в нетерпении кричат официантке:
– Эй, включи сейчас же радио! Хотим услышать дневные новости! Объявили чрезвычайное положение. Правительство Брюннинга взяло на себя диктаторские полномочия, и наложило на нас тяжкие декреты.
Мгновенно челюсти прекратили жевать, все в напряженном молчании обступили радиоприемник. И Филипп смешался со слушающими.
– Внимание! Внимание! – гремит голос диктора. – Указы в связи с чрезвычайным положением. Диктаторские полномочия правительству.
Голос перечисляет параграф за параграфом. Все слушают. Никто не раскрывает рта. Диктор кончил. Началась суматоха. Филипп не вернулся к столу, исчез среди спорящих и жестикулирующих людей. Белла продолжала сидеть у стола. Нервно пила кофе. Вдруг повернулась. За ее спиной рабочие шумели в разгаре спора.
– Нет сомнения. Заработок наш сократят. Права на протест нас лишили. Если завтра объявят забастовку, будем бастовать.
– А о жене и детях ты не подумал?
– Мальчик, ты полагаешь, что обнимать жену ночью и гладить потомков и вообще младенцев – это все в этой жизни? Знай, в человеке есть идея, и она главнее всего.
Старый рабочий ворошит пальцами волосы на голове, как бы доказывая молодому товарищу этот простой и понятный факт: «Идея в человеке главнее всего!»
Белла следит за Филиппом, приближающимся к столу. Спокоен и уравновешен как всегда. Надевает пальто медленными движениями, застегивает перчатки на руках и тщательно закутывает шарфом шею.
– К приятным дням пришли, – говорит он бархатным голосом, – полагаю, что будет еще хуже.
– Раз так, – с поспешностью говорит Бела, – надо готовиться к отъезду.
– Но, детка, – выговаривает ей Филипп, – ты не можешь отрешиться ни на минуту от этой мысли. Совершаются разные события, а ты все за свое.
Черные брови ее удивлено ползут вверх, она решительно вскакивает с места.
– Пошли, – говорит, – пошли.
Они выходят на улицу, Филипп снова раскрывает зонтик, но сильный ветер почти вырывает его из рук. Филипп закрывает его и, опираясь на зонтик, как на трость, берет Беллу под руку.
– Филипп, – шепчет Белла, – мир сошел с ума. Какой тяжелый день!
Белла чувствует руку Филиппа, прижимающуюся к ее руке, и наслаждается этой неожиданной нежностью. «Короткие мгновения счастья», – думает она. «Холод пробирает до костей, жажда тепла усиливается. Словно желание тоскливо завыть превратилось в мелодию, словно можно рассеять эту пасмурность. Кажется, навсегда прилипнет к моей душе скорбь этого дня».
Белла прижимается к Филиппу.
«Еще короткий миг счастья, всего лишь короткий миг».
Тем временем улица заполняется массой народа. Рабочие текут шеренгами. Небеса заложили черные тучи. Дождь хлещет отяжелевшими струями. Ветер забрасывает огромными пригоршнями воды идущих людей. Головы их вжаты в плечи, наклонены вперед в усилии – одолеть дождь, бьющий им в спины. В борьбе с ветром тяжелеют шаги на подъеме улицы. Белла освобождается от руки Филиппа и вливается в ритм шагающих и подгоняемых ветром людей. Голова ее, промытая дождем, также втянута в узкие ее плечи и наклонена вперед. Она движется вместе со всеми, и неожиданный подъем духа охватывает ее. Она чувствует себя посланницей какого-то скрытого порыва в этом огромном человеческом воинстве, идущем против ветра и бури. «Куда ты, Белла?» Я шагаю в марше, марше борцов. Вот, взметнулись кулаки, развевается флаг над головами. Один из массы выкрикивает: «Идея в человеке главнее всего!» «Всего! Всего!» – вторят массы, и Филипп среди них. – Вперед!»
Со всех сторон ее окружают шеренги людей. Тучи в небе угрожающе черны. Воды бурлят по склону, вливаясь в канализацию.
– Куда ты так спешишь? – В голосе Филиппа сердитые нотки. – Бежишь, как будто и тебе спешить на фабрику после обеденного перерыва.
Белла словно пробуждается и останавливается.
– Езжай домой, Белла, тебе тяжело идти в такой дождь. А я поеду к родственникам. Саул вернулся с каникул, а я его еще не видел. Я приду вечером к тебе в Дом «Халуцим».
– Нет, я вечером занята, Филипп. Завтра я не приду в офис. Я себя плохо чувствую, мне надо отдохнуть.
– Хорошо, Белла, отдыхай. Увидимся послезавтра, когда я вернусь из поездки. И будь разумной, детка.
* * *Станция метро беспрерывно проглатывает и выбрасывает массы людей. Молчаливо спускаются Белла и Филипп по ступенькам на перрон, забитый народом. У большинства в руках дневной выпуск газет с параграфами чрезвычайного положения. У других газеты торчат из подмышек, из карманов пальто. Филипп покупает газету в киоске на перроне, погружается в чтение и объясняет Белле эти параграфы. Она не слушает. Согнулась в своем балахоне, вся промокшая от дождя, кости ноют от холода. Думает – «Еще немного, я буду в Доме «Халуцим», мне следует принять решение. Сидеть дружно с товарищами в моем положении я больше не могу, просто не могу».
Слышен шум и лязг приближающегося поезда.
– Пока, Филипп.
– Пока, маленькая Белла, будь разумной.
– Буду.
Заталкиваемая людьми, Белла исчезает в вагоне, успев повернуть лицо в поисках Филиппа. В последнее мгновение замечает его, идущего к выходу, опирающегося на зонтик, читающего газету на ходу.
В вагоне жарко. Нет места на скамейках. А ехать ей долго, с восточного края города на западный его край. Белла пытается пробиться в угол вагона, прижимает голову к стене. Закрыв глаза, прислушивается к стуку колес.
«Через час я буду с Джульеттой, Рохеле, Нахманом, Ромео, никогда не смогу их оставить. Вместе росли в одном доме, в Еврейском квартале, вместе присоединились к Движению. Многолетняя дружба, юношеская радость, юношеские огорчения – все вместе, всегда вместе».
Вместе эмигрировали из Польши в годы инфляции. Детьми были на пороге зрелости, тринадцати-четырнадцатилетними подростками. Пристроились жить на еврейской улице, в домах, забитых эмигрантами. Во всех углах шатались дети. Женщины всегда стояли в открытых дверях, болтали, кричали, нередко плакали. Всегда в стенах дома слышался стук тарелок и ругань. И в этой суматохе слышался голос Йоселе, напевающего себе под нос:
Красотка Эти,Оставь свои речи,Лети в каретеМессии навстречу.Так Йоселе успокаивал свою маленькую сестренку, раскачивая ее в колыбели. Белла покидала свое логово, нищая из нищих, присоединялась к Йоселе, помогая укачивать ребенка. Из коридора возникала Зельда-Тхия, помешанная тетя Рохеле. Обычно она суетилась на ступенях и благословляла детей, прикладывая руку к их головкам и бормоча молитвы, в которых можно было разобрать лишь слова на иврите – «Ихье» (Да будет…) и «Тхия» (Восстание из мертвых…). Зельда любила напевы. При этом глаза ее расширялись и блестели какой-то высшей радостью. Голос Йоселе притягивал ее в их комнату. Молча стояла, глаза ее блестели. Когда песенка кончалась, гладила Йоселе, Беллу, ребенка по головам.
Йоселе и Белла были большими друзьями. Йоселе был первым в компании по изучению немецкого языка. Он собирал и организовывал молодежь, шатающуюся на улицах. Вместе с ним Белла ходила по переулкам, знакомясь с окружением еврейского квартала. Ходили к «Колоколу», так называлась знаменитая в этих переулках забегаловка. На вывеске было написано большими буквами – «У нас отличное обслуживание». Тут Йоселе продавал пустые бутылки, которые вся компания сообща собирала. Рядом со столовой стоял огромный запущенный дом, двери его были широко раскрыты в сторону улицы. Облупившийся темный коридор готов был поглотить любого, входящего в него. На пороге дома сидели всегда старики и старухи, громко злословили по поводу любого, входящего и выходящего из забегаловки и не замолкали, пока не выходил хозяин забегаловки и не давал им остатки еды. Двор всегда был полон пьяниц, которых выволакивали из забегаловки через заднюю дверь. К стеклам кухонных окон, выходящих во двор, как мухи на сахарных крошках, прилипала носами малышня. А перед забегаловкой выстраивались евреи с тележками розничной торговли, и голоса их нараспев расхваливали свои товары. Продавали овощи, рыбу, старую одежду, и все то, на что набрасывались жители переулков. И всегда они были окружены шляющейся шантрапой, бездельниками и шлюхами, мало покупающими, но ужасно любопытными. Отец Йоселе тоже стоял там и продавал ношеную одежду. Рядом с ним мелкая торговка, мать Рохеле, на все лады расхваливала рыбу со своего лотка.
Каждый день к забегаловке наведывались посланцы «войска Христова» в синих своих мундирах, с золотыми пуговицами и красными погонами, как настоящие солдаты. Один из них держал мандолину, украшенную цветными лентами, и все они вздымали очи к небу и пели под аккомпанемент мандолины:
Приходите к нам, стар и млад,Вас Иисус ожидает у врат,Он простит вам любой ваш грех,Он из ада спасет вас всех.И один из них возвышает дрожащий голос и говорит проповедь об Иисусе беднякам и отверженным. Иисусе! Иисусе! Старики и старухи на пороге дома замолкают и в большом волнении расчесывают свои головы и ноги. Официантки, весьма легко одетые, выскакивают из забегаловки. Слушая проповедника, громко шмыгают, вытирая платочками носы. Прохожие бездельники отвешивают увесистые плевки словам Бога живого. Открываются окна, явно неверующие физиономии обретают праздничное выражение. Весь переулок погружен в страх Божий. Иисусе! Иисусе!

