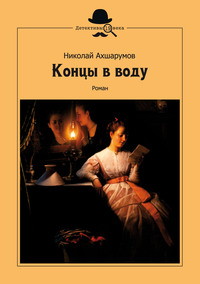
Концы в воду
Депеша была готова в пять минут, и я бегом кинулся с нею на станцию. Она была на имя Z**, которому передан был в ту пору наш бесконечный процесс.
«По делу Ольги Бодягиной, отравленной в Р**, – телеграфировал я. – Лицо, которое ищут, приезжало уже однажды в Р** в начале этого сентября и виделось с Ольгой тайно. Имя ее – баронесса Марья Евстафьевна Фогель, кузина мужа, орловская. Я знаю это из первых рук. Сообщите немедленно кому следует. Подробности будут в письме. Ответ оплачен».
Воротясь домой, я немедленно сел писать и просидел всю ночь. Рано поутру два письма – одно к тетушке Софье Антоновне, другое на имя Z** – были готовы и снесены на почту. В первом я умолчал о своих подозрениях, частью не желая тревожить тетушку без нужды, но, признаюсь, больше из страха, чтобы она не проболталась. Зато во втором я высказал Z** без утайки все, что мне было известно.
«Судите сами, – писал я, – и сделайте за меня все, что нужно. Издержки оплачены будут немедленно вслед за известием об итоге.» В конце я просил его сообщить мне подробно о ходе дела.
Два дня прошло в лихорадочном ожидании. На третий я получил короткий ответ от Z**: «Передал вашу депешу буквально в Р**, но не могу предсказать результата. Дело не выясняется. Все нужное будет сделано. Z**».
Через неделю пришла другая депеша: «Письмо ваше получено, но указания плохо оправдываются. Дознано, что б. Μ. Е. Ф. в критическую минуту была в своем имении и ни в ту пору, ни в сентябре не трогалась с места. Имя, конечно, украдено. Против мужа нет никаких улик, и вообще ничего не открыто. Z**».
Депеша эта охолодила мой пыл, и я решил, что мне незачем ехать… Прошла еще неделя. В конце ее я получил, наконец, и письма, но ни одно из них не разъяснило мне мучительного вопроса. Тетушка фантазировала и горько жаловалась на новый порядок вещей по следственной части. «Случись это прежде, – писала она, – какой-нибудь Шерстобитов давно бы все разыскал. А нынче?… Кто хочет, может спокойно тебя отравить или зарезать» – и прочее. Судя по тону, однако, время подействовало. Ее письмо было спокойнее и содержало в конце страницу о посторонних вещах.
– Бедная Оля, – подумал я. – Как скоро тень твоя исчезает со сцены, и как далеки мы все от безутешного горя, лживую дань которого мы так охотно кладем на могилу друзей!.. Вот, тетушка пишет, что ее Вася выпущен в гвардию. Бьюсь об заклад, что новые эполеты Васи волнуют ее теперь гораздо более, чем эта тайна, о которой она две недели назад писала, что спать не дает. Спит теперь, я полагаю, так же спокойно, как и бывало.
Письмо Z** тоже не содержало важных открытий, но тем не менее оно дало пищу мысли, пополнив мучительный недостаток фактов в моей голове.
«Большая ошибка, – писал он, – сделана была в самом начале розыска. Пять-шесть часов возились с пустыми предположениями об аневризме[15], самоубийстве, виновности горничной и так далее, из которых последнее, если б и оправдалось, не требовало бы спеха, так как девчонка эта была в руках; а то, что требовало немедленного распоряжения, пошло в конец очереди, точно так, как будто они решали алгебраическую задачу, в которой искомое не может дать тягу. В полдень только хватились телеграфировать по железной дороге в Москву и, разумеется, опоздали, так как почтовый поезд был там в 10 часов утра. Говорят: все равно, потому что лицо было вполне неизвестно!.. Да если б лицо было известно, тогда и разыскивать, собственно, нечего, оставалось бы только преследовать и ловить. Но я позволяю себе спросить, что это значит: „лицо вполне неизвестно“?
Напротив, многое было о нем известно. Во-первых, известен был час отъезда, а стало быть место и время прибытия. Убийца была непременно в 10 часов в Москве, на дебаркадере[16], в числе пассажиров почтового поезда. Это одно уже не безделица. Но, говорят, как узнать? Не задержать же приезжих гуртом в вокзале? Опять пустяки. Известно было, во-первых, что это женщина; вот уже половина прочь. Потом, эта женщина не простая, а, как говорится, дама, да еще молодая дама, и весьма вероятно, почти наверное, – одна. Но и это еще не все. Знали или должны были знать, что дама эта была без багажа, с одним ручным мешочком (что на большом расстоянии, по крайней мере у нас в России, редкость) Я спрашиваю, что остается? И не несчастный ли это случай, если из пятисот, положим даже из тысячи человек пассажиров, нашлось бы больше пяти, отвечающих всем этим приметам? Оставьте же лишние церемонии и задержите этих пять лиц хоть на минуту, зная почти несомненно, что между ними одно искомое. Спрашивается: есть ли какая-нибудь возможность, чтоб эта искомая ускользнула, чтобы она не выдала себя чем-то тут же на месте, не оробела, не сбилась в ответах?… И это только простая логика, доступная всякому, а у привычного сыщика есть свои, незнакомые нам приемы и своего рода нюх, который с такими богатыми данными привел бы его прямо к цели.
Но время упущено, след простыл и розыск с первых шагов сел на мель. Ничего важного у них нет теперь. Держат до сих пор в остроге эту несчастную горничную, насчет которой теперь никто уже не сомневается, и недавно опять посадили (чуть ли не в третий раз) старуху, хозяйку того постоялого дома, где останавливалась убийца. Старуха давно созналась, что то же лицо было у нее уже раз, в сентябре, но от нее требуют имени, низводя таким образом уголовный вопрос до полицейской придирки, основанной сверх того на чисто бумажном порядке, который у нас нигде, кроме столиц, не действует. Известно, как это делается. Кто не бывал проездом в губернском или уездном городе? И кто не знает, что там не только на постоялом дворе, а даже в людной гостинице раньше трех дней не спросят ни вида, ни имени?… Да и к чему? Что, например, выигралось бы, если бы старуха показала, что дама, у нее квартировавшая, называла себя баронессою Фогель?…
Кстати, об этой Фогель: вы уже знаете главное из депеши, и мне остается прибавить очень немного. Ее, то есть действительную, само собой разумеется, не тревожили. По первым справкам ясно было, что это фальшивый след. Во-первых, она была несомненно дома и в сентябре и после, а во-вторых, есть множество обстоятельств, по которым она не могла быть главным лицом, а даже и косвенно участницей. Назову только одно из них, потому что оно одно может иметь для вас интерес. Дознано, что она не видала Бодягина во время его поездки в Орел…
Затем о Бодягине. Его, разумеется, не оставили без внимания, но кроме писем жены, в которых действительно речь была о разводе и еще об одном предмете (сейчас скажу, о каком), не найдено ничего, что могло бы даже и косвенно подтвердить существовавшее против него довольно слабое подозрение. Мало того, одно письмо (если не ошибаюсь, последнее, полученное от жены) едва не сбило всех с толку, направив догадки совсем в другую дорогу. В письме этом говорится довольно ясно, что положение пишущей нестерпимо, что жизнь ей в тягость и что только одна религия удерживала ее до сей поры от самоубийства, но что и эта точка опоры в последнее время у нее пошатнулась… Судите сами, какая находка для следователя, чувствующего, что дело скользит из рук!.. Не будь тут двух-трех неловких фактов, скрепляющих показания горничной, это письмо им развязало бы руки, да может быть еще и развяжет. Но возвращаюсь к Бодягину. Я лично вполне разделяю некоторые из ваших догадок на его счет. Мне кажется крайне невероятно, чтоб он, вообще говоря, был совершенно чист, потому что помимо его или каких-нибудь отношений к нему трудно даже представить себе, чтобы кто-нибудь мог иметь какую-либо причину отправить его жену на тот свет. К тому же они были в ссоре, речь у них шла о разводе, и он на этом настаивал, а она была не согласна. Все нравственные мотивы налицо. Но, господа, нравственные мотивы – вещь очень скользкая, и единственный вес, который мы вправе придать им, есть вес отрицательный. Если их нет, то это естественно заставляет нас усомниться в виновности. Но в обратную сторону нельзя заключать, ибо мы знаем из опыта, что подобного рода мотивы сами в себе недостаточны. Мало ли мужей в ссоре со своими женами и добивающихся развода или по меньшей мере сильно его желающих! Что ж? Разве все они прибегают к убийству?. Помилуйте! Да этак жизнь в обществе, в гражданском быту была бы немыслима и оставалось бы бросить людей, бежать от них как от тигров или от ядовитых змей!.. Но, допустим, что в иных редких случаях подобного рода мотивы могут вести и приводят действительно к преступлению. Что ж из того? Для каждого данного случая необходимо все-таки доказать фактически, что подобного рода связь мотива с делом существовала действительно. Факты необходимы не только, чтоб обвинить, а даже чтоб юридически заподозрить лицо, а фактов у нас, к несчастью, нет никаких. Концы, если они и были с его стороны, припрятаны так искусно, что даже тени от них не видать. Конечно, за ним следили и до сих пор следят, но вот уже месяц прошел без всякого результата, а месяц, батюшка, в этого рода вещах – это почти все равно, что вечность.
Если в месяц они ничего не пронюхали (а я имею верные сведения, что не пронюхали ничего), то дело это, судя по всему, безнадежно и нужно чудо, чтобы теперь еще открыть что-нибудь. Они это сами знают, и, если не ошибаюсь, махнули рукой. Следят еще так pro formu[17], покуда в публике не затихло, а как затихнет, составят определение – и баста.
Перехожу к вашей дорожной встрече, и прежде всего скажу, что я справлялся на Дмитровке, не официально, но все же весьма аккуратно и через верных людей. В книге нашли действительно ваше имя, но тут же, под вашим, какой-то другой рукой написано, – угадайте-ка что?… Софья Черезова!!! Просто и остроумно! Я хохотал, когда получил ответ из Москвы… Si №n e vero e ben trovato[18], не правда ли? Вот подите, как осторожно следует быть с молодыми попутчицами, которые прячутся в семейных купе, опускают вуаль, и, что всего хуже, курят сигары!.. Мнимая Фогельша тоже курила сигары и тоже пряталась и, вдобавок, имела кольцо с рубином!.. Все это, я согласен, довольно странно и совершенно естественно должно было породить догадки. Но, господа! Что такое догадки, которые нас не ведут ни к чему? Я не намерен спорить о силе их. Положим, что они еще вдесятеро сильнее; положим, что была та самая. Что ж из этого? Она исчезла, и вы не знаете даже имени. Вы видели только мельком, в потемках, вензель на носовом платке – „Ю. Ш.“ А может быть и не „Ю. Ш.“? Может быть, вам показалось так?… Ошибки этого рода нередки. Да, наконец, вы и сами не верите или не верили этому вензелю; доказательство – имя, которое вы мне сообщили. Конечно, оно было фальшиво, но вы не считали его фальшивым, и совершенно логично, потому что нельзя заключить ничего решительного по вензелю на платке. Платок может быть чужой, вензель случайный. Пойду еще далее. Предположу, что вы в настоящий момент в России встретили эту личность где-нибудь и убедились, что это та самая. Как вы докажете, что это та – то есть что это ваша попутчица, и затем еще раз, что она и искомая личность тождественны?… Вы могли ошибиться. Вы не видели ее в Р**, вы знаете только от вашей кузины две-три приметы, очень поверхностные…
Эти и некоторые другие соображения заставили меня ограничиться подстрочною передачей вашей депеши и умолчать совершенно о том, что вы сообщили в письме».
Письмо это я перечитывал несколько раз, и на первых порах оно произвело на меня благотворное влияние. Оно дало пищу моей раздраженной мысли и положительную опору моим догадкам, но, тем не менее, оно было скудно. Оно оставляло главный вопрос не только неразрешенным, а даже незатронутым. Кто сделал дело? И для чего? Кому нужна была смерть этой несчастной женщины?…
Недели три я возился с этой загадкой и, наконец, не вытерпел. Кстати, я должен был выслать деньги Z** и, пользуясь этим случаем, написал ему несколько строк, прося ответа. Он отвечал, что дело совсем замолкло и что догадки его, так же как и других, за совершенным отсутствием фактов, способных направить их на какой-нибудь иной путь, волей-неволей останавливаются на самоубийстве.
«Другое лицо, – писал он, – конечно тут было, и факт, что оно так старательно пряталось, конечно, весьма подозрителен. Но мы не знаем, кто это лицо, и нет ничего невозможного, что оно было только пособницею. Оно могло, например, привезти с собой яд, по просьбе О. Б., которой трудно было его достать в таком городке как Р**, где малейший шаг с этой целью возбудил бы немедленно толки и подозрения. Против этой гипотезы, разумеется, тяжело говорит показание горничной, что ее госпожа смеялась и весело разговаривала наедине с приезжей, но ведь приезжая могла и не верить, чтобы ее приятельница серьезно решилась исполнить свое намерение. Яд мог быть добыт и вручен, как пистолет или нож, так только, на всякий случай, – и получен вашей кузиной шутя, со смехом, с не раз повторенными уверениями, что она и не думает употребить его в дело без крайней надобности. Может быть, даже она и точно не думала в ту пору, когда получала, а там, когда гостья ушла, – одна минута уныния или отчаяния, и дело сделано – сделано, может быть, даже без твердого умысла и отчета, а так, как говорят, лукавый попутал… Все это очень слабо, конечно, и я, пожалуй, даже скажу – неправдоподобно, но в строгом смысле; нельзя сказать, чтоб это было совсем уже невозможно. К тому же, есть кое-какие невероятности и в другую сторону. Правдоподобно ли, например, чтобы О. Б. доверилась так легко совсем незнакомой женщине, которая назвала себя именем, для О. Б. тоже совсем незнакомым? И как доверилась? Посещала ее тайком от матери, в постоялом доме, открыла ей, как вы пишете, свое сердце, свое отношение к мужу, свои задушевные мысли?… Наконец, гипотеза самоубийства имеет все-таки на своей стороне два факта: во-первых, ключ, найденный внутри (говорят, подсунут снаружи кем-нибудь из вошедших, но не гораздо ли легче предположить, что он был повернут бородкой прямо на выем и выпал, когда снаружи стали стучать), а во-вторых, – письмо, в котором О. Б. собственноручно свидетельствует о своем намерении. А догадки другого рода не имеют в пользу свою совсем ничего. Если бы было что-нибудь – любовь, например, или ревность, или матримониальный[19] умысел, то трудно себе представить, чтоб этого рода вещи ни прежде, ни после не обнаружились совершенно ничем. У Бодягина были, конечно, любовницы, да и теперь есть, но все это женщины или замужние, или публично скомпрометированные, и, стало быть, такие, которым его жена не могла мешать. К тому же дознано, что ни одна из них в ноябре не шевельнулась с места. Затем, кто была искомая и в какой связи состояла она с О. Б. – это тайна, которую разъяснить, вероятно, могла бы нам только одна покойная. Вам она не открыла ее, но почем вы знаете, в какой степени она была с вами искренна, и не было ли у нее причины открыть вам только часть истины, а насчет остальной умолчать или даже умышленно направить вас на фальшивый след?… Подумайте и решите сами».
Письмо это вывело меня из себя.
«Проклятый фигляр[20]! – воскликнул я мысленно. – Кондотьерри[21] ораторских распрей! Профессор судебной гимнастики!.. Ты упражняешься тут надо мной в диалектической гибкости языка!.. У тебя нет уважения к истине, нет убеждений, нет фактов, ясных как день, которые ты не готов бы был опрокинуть вверх дном, перекроить и вывернуть наизнанку, по первому требованию покупщика!.. Ты сторожишь, как фактор[22] на перекрестке, засматривая в глаза прохожим: не наймет ли тебя кто-нибудь на послуги!.. Все, что угодно, – на все готов!.. Прикажете – сию минуту вам докажу, что женщина эта отравлена! Или вы не желаете этого? Хотите, чтоб я доказал, что она сама отравилась?… Сию минуту…»
Я смял письмо и с отвращением бросил его в огонь. Я был убежден, что все это фиглярство и что Z** хотел только пощеголять передо мной своей изворотливостью. Но не прошло и пяти минут, как я уже чувствовал, что сомнение подкапывается, как крот, под мою непоколебимую истину. «Ну а что, если он прав?» – шептало что-то чуть слышно мне на ухо; и вслед за этим все спуталось у меня в голове.
Долго-предолго длилось еще это бесплодное напряжение мысли. Я строил гипотезы по целым неделям и разрушал их в две-три минуты. Это была работа Сизифа – мучительная и безысходная. Порой, когда мне казалось, что я уже близок к вершине, во мне поднималась решимость, и я начинал обдумывать планы действия. Раза два или три я чуть не уехал на родину с этой целью, но каждый раз, в решительную минуту, нелепость задуманного становилась мне вдруг ясна как день, руки мои опускались в унынии, и камень Сизифа катился вниз… Это шло периодически, как симптомы перемежающейся болезни, и периоды уныния совпадали у меня всегда с тяжелым расстройством нервов. Я помню бессонные ночи и помню странные сновидения, которые посещали меня в бреду. Они все были в связи с фатальным событием. Вначале мне часто грезилось, что я напал наконец на след убийцы и отыскиваю ее то в Москве, в нумерах, то в Р**, то ночью, в уединенном купе вагона. Раза два я мчался за ней на курьерском поезде, где-то в Германии, стараясь изо всех сил припомнить адрес отеля, в котором, я знал, должен ее найти. Раз, это было уж летом, в июльскую душную ночь, – мне грезилось, будто я крадусь в потемках на пятый этаж с агентом сыскной полиции, в руках у которого потайной фонарь. Мы отворили двери отмычкой, пробрались в ее квартиру и захватили ее в постели сонную.
– Она? – шепчет сыщик, направив свет фонаря на ее лицо.
Я вглядываюсь: «Она!» Но в эту минуту фонарь потух, и две руки обвились вокруг моей шеи.
– Останься!. Ведь ты меня сам приглашал, – шепчет мне на ухо страстный голос, и я вдруг будто бы понял, что все это грезы, что никакого Берлина и сыщика не было, что я в Москве, на Дмитровке, в меблированных комнатах. В объятиях у меня моя попутчица, и она будто бы шепчет: «Смотри же, помни наш уговор. До утра я твоя, но поутру ты выпьешь то, что стоит тут на столе, и тогда счеты наши окончены». – «Что такое стоит на столе?» – Она шепчет: «Яд». – «Какой?» – «Тот самый, который я Ольге дала. Не бойся, – он действует быстро, и ты умрешь без мучений. Я видела, она умерла при мне. Усмешка еще не успела сбежать у нее с лица, как на нем уже лежала тень смерти, и в ту минуту все было кончено. Так же легко окончится и с тобой, потому что это тот самый яд.»
Ужас сдавил мне сердце, и когда я проснулся, оно стучало молотом у меня в груди.
Но чаще всего мне снилась Ольга, и снилась как-то всегда одинаково. Сижу будто я один у себя и совершенно спокоен. Вдруг отворяются двери, и входит женщина в черном. Лицо под вуалью. Она бледна и серьезна, но кроме этого ничего особенного. Она подходит, глядит на меня печально и словно хочет сказать мне что-то, но губы ее не шевелятся, и взгляд недвижим… Смутная мысль, что дело неладно, потому как же это она пришла, когда она. того?… И следом за этой мыслью страх крадется холодком вдоль по спине. Видение меркнет, и я просыпаюсь в ознобе.
В исходе года, однако, следы душевного потрясения стали слабеть и небольшая поездка на север, в Б**, вместе с холодным морским купаньем, поправили меня окончательно. Жизнь потекла по-прежнему, мелкой своей стороной наружу. Дела, приятели, книги – все снова вступило в свои права.
Часть вторая
Жюли
Глава первая
Отец мой был русский, мать – молдаванка. Они были бедные люди, жили в уездном городе и имели много детей. Я была младшая. Меня – двухлетнюю – взяла к себе на воспитание одна проезжая барыня, которая остановилась у нас случайно. Она была бездетна и скоро потом потеряла мужа. Звали ее Анна Павловна, но я всегда ее называла «маман». Она любила меня, держала как дочь и дала мне приличное воспитание. У меня были учителя музыки, танцев, истории, арифметики и чистописания; русскому языку и Закону Божию учил священник, французскому и географии – гувернантка. Все было ладно, и судьба моя могла быть совершенно другая, если бы мы с маман не встретились, ко взаимному огорчению, на одной тесной дорожке.
У нее были любовники, кто попало: зубные врачи, парикмахеры, странствующие артисты и безбородые молодые офицеры в долгу. Все это я знала еще ребенком от гувернантки моей, мадмуазель Плюшо, которая была очень добра ко мне и наставляла меня, как я должна себя вести, чтобы маман не была вынуждена передо мною краснеть. И долго после того, как мы расстались с мадемуазель Плюшо, я исполняла ее советы, но один случай испортил все.
Конечно, маман и сама виновата. Мне было уже 17 лет. Вольно же ей было оставлять меня по целым часам наедине с моим учителем музыки, красавцем, который был у нее в ту пору на очереди и в котором она души не чаяла. Вместо того, чтобы оправдать доверие, ему сделанное, он соблазнил меня. Как это случилось, я и сама не знаю, потому что я не была в него влюблена, да и вообще не влюбчива. Но несмотря на уроки мадемуазель Плюшо, я была в ту пору еще неопытна и многого вовсе не понимала, а когда поняла, то уже было поздно и никакое благоразумие не в силах было меня остановить. Теперь я знаю, что это такое – это в крови, и тех, у кого это есть, нельзя строго винить.
Два года мы, таким образом, играли в прятки с маман, и я до сих пор удивляюсь, как она ничего не заметила. Три вещи, впрочем, несколько объясняют ее слепоту. Во-первых, внешность была у меня такая невозмутимая, что сквозь нее ничего не проглядывало наружу. В полном разгаре страсти я смотрела еще такою невинностью, что няня моя, бывало, после свидания, только руками всплеснет. «Творец небесный, – говорила она, – и кто только поверит, глядя на этакую, что уже сквозь все прошла!.. Вишь, очи потупила! Архангелом смотрит! А внутри-то, поди, семь бесов сидит!.. Ах ты тихоня! И как ты только делаешь, что к тебе этот грех не льнет?» Во-вторых, природа меня наделила железными нервами. Никогда, сколько я помню себя, я не теряла присутствия духа. Заставить меня покраснеть – было нелегко, заставить сбиться в ответах, струсить и растеряться – почти невозможно. В-третьих, меня прикрывали. На моей стороне была няня, та самая, о которой сейчас была речь, и горничная, которую я подкупила. Через эту последнюю, впрочем, я и попалась. Сейчас расскажу как, а теперь только прибавлю, что мой учитель музыки был не единственный. Маман их меняла быстро, особенно в это последнее время, и я волей-неволей следовала за нею. После учителя музыки у нас был мозольный оператор, а после оператора – магнетизер, который лечил от всяких болезней тем, что водил руками по телу. У маман был какой-то дар отыскивать этого рода людей, и они тотчас делались у нее домашними, обедали, пили чай, играли в карты.
Но возвращаюсь к рассказу. Около этого времени мое воспитание было кончено, и маман начала меня вывозить. У нее был большой круг знакомств, и мне было весело; я много плясала, рядилась, кокетничала, за мной волочились. Протянись это еще год или два, и я, может быть, составила бы хорошую партию, но судьба распорядилась иначе.
Раз как-то, когда я собиралась на бал, Дуняша, горничная, спалила мне кружева, дорогую вещь. Я рассердилась и в сердцах погрозила ее прогнать: большая глупость, потому что я не могла этого сделать, и она мне сказала это в глаза. Это был первый раз, что она осмелилась мне намекнуть на мое унижение, и я, конечно, умнее бы сделала, если бы стерпела. Спровадить ее из дома было нетрудно. Она воровала белье у маман, и я могла бы ее подвести так, что она никогда не узнала бы после, кому этим обязана. Но я очень вспыльчива, и когда она это сказала, не помню уж, что со мной сделалось. Помню только, что я не дала ей кончить и что она убежала из комнаты вся исцарапанная, с красным опухшим лицом. Маман не было дома, но я этим не много выиграла… Няня моя прибежала ко мне испуганная… «Барышня! Что вы наделали? Зачем прибили Дуняшку? Беда! Послушайте-ка что там идет, на кухне, и как эта сквернавка божится, что донесет обо всем Анне Павловне!»
Тогда только я опомнилась, и мы с няней стали советоваться, что делать. Няня советовала сейчас заплатить Дуняшке, чтобы она молчала, но на беду у меня в портмоне нашлось всего 2 рубля, а покуда няня бегала в сундук за своими, маман вернулась и первая, кого она встретила, была эта девчонка со своим ужасным лицом. Она нарочно не вымылась, чтобы произвести полный эффект. Я ожидала немедленной катастрофы, но ошиблась. Маман заперлась с Дуняшей и долго ее допрашивала, потом кликнула няню. Няня не выдержала и покаялась во всем. Я в страхе ждала своей очереди, но маман не позвала меня к себе в этот день. Должно быть, она догадывалась, что мне тоже известны ее грешки, и ей было стыдно.
На другой день, поутру, она пришла ко мне рано, прежде чем я успела встать, и села возле моей постели. Я спрятала от нее лицо в подушку и сделала вид, будто плачу, но я не плакала, мне было только ужасно стыдно, и я боялась, чтобы меня не отослали в семью, как маман иногда грозила, когда была на меня очень сердита за что-нибудь. Представьте же мое удивление, когда я вдруг почувствовала, что маман обнимает меня. Мне стало сперва немножко смешно, но тем не менее я была тронута, особенно когда увидела, что она плачет. «Бедное дитя! – проговорила она по-французски. – Бедная! Бедная, заблудшая по моей вине! Я не сдержала клятвы, которую я дала Богу, заменить тебе мать… Прости меня! Я больше перед тобой виновата, чем ты передо мной».

