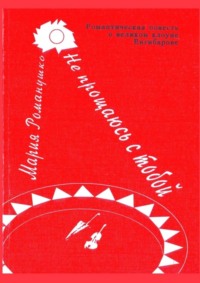
Не прощаюсь с тобой
Я выбегаю из архива, ловлю такси – словно могу опоздать – и мчусь туда, на Цветной, как вот уже двенадцать лет – из года в год, из марта в март…
А с крыш – капель! Капель – как в то счастливое, нестареющее в моей памяти утро…
* * *
…В то утро я отчаянно опаздывала на первую лекцию в институте. Но всё же приостановилась у афишной тумбы взглянуть: что там новенького?..
Нет, это невозможно! Неужели?.. Это, наверно, снится…
Я потрогала рукой свежую, ещё влажную афишу – она пахла клеем, инеем и ещё чем-то – тревожным и мучительно-сладким…
Вот и дождалась! Вот и свершилось!
Я бежала по Цветному, не разбирая дороги, в глаза било солнце – так ярко, так слепяще! С крыш капало, текло на головы прохожим… На тротуарах – синяя весна вперемешку со вчерашней метелью…
Подбегаю к цирку. И даже глаза прикрываю рукой в первый миг. На фасаде – огромный портрет Енгибарова!
Здравствуй, Лёня! Неужели это не сон?
Взбегаю по мокрым ступеням. Беру билет на вечернее представление. Куда же деть себя до вечера? Как пережить, перетерпеть эти бесконечные девять часов?..
* * *
И вот я снова здесь. В Старом цирке на Цветном.
Время тут как будто остановилось: тот же острый запах опилок, те же мутноватые зеркала под матовыми фонарями, те же билетерши в дверях, ничуть не постаревшие за двенадцать лет. Даже униформа на них не переменилась!
Подхожу к портьерам, отделяющим фойе от кулис. В просвете их что-то металлически поблёскивает, слышны шаги, голоса, мелькают фигуры пробегающих в спешке людей…
Табличка: «Посторонним вход воспрещён!» Что-то я не помню её здесь раньше. Пожалуй, это – единственное нововведение за эти годы. И стоит на страже закулисной стороны – этой притягательной страны – серая, хмурая униформа.
А тогда…
* * *
Меня никто не остановил тогда. И я вошла за кулисы…
Лабиринт лестниц и огней, распутываясь, расширяясь, вывел меня к двери. На двери – табличка «Леонид Енгибаров». Сейчас, через несколько секунд, я увижу его. Сейчас, только переведу дыхание…
Сколько раз за эти три года я представляла себе нашу встречу! Полумрак гримёрной, мягкие огни, помноженные зеркалами, и – он, удивлённый, радостный, поднимающийся мне навстречу… И я говорю ему: «Я обещала прийти, и вот пришла».
Я постучала.
«Войдите!» – услышала его (его ли?.. ну да, несомненно его!) голос. И – с остановившимся сердцем – вошла.
Ярко, душно горели лампы… Комната была битком набита людьми! Журналисты с репортёрскими сумками, друзья, знакомые… Ведь это был день премьеры!
Енгибаров сидел перед зеркалом – и потому я увидела его сразу всего – плотно обтянутую майкой спину, плечи, утратившие за эти годы мальчишескую угловатость, и – лицо в зеркале. Бледное и нервное лицо актёра, которому досаждают назойливые посетители и мешают готовиться к выходу.
– Здравствуйте, – сказала я, теряясь под любопытными взглядами нежданных зрителей и под его – рассеянным, неузнающим взглядом…
– Здравствуйте. Вы ко мне?
Смотрел холодно, нетерпеливо – и не узнавал. Что угодно, но только не это могла я предположить. С языка посыпалась бессвязная скороговорка:
– Мы все… очень рады, что вы приехали к нам… большое спасибо, мы все так ждали вас…
Я протянула ему букетик сонных фиалок в морозном целлофане.
– Спасибо, – сказал он, принимая мои цветики.
Нет, не узнаёт…
Как глупо всё!
И нужно было уходить. Но, Боже мой, неужели вот так – и всё?! Что-то горячее захлестнуло сердце, лицо…
– Вы… не узнаете меня?
– Н-нет… – он пожал плечами.
И тут я вспомнила о школьной тетрадке, которую сжимала в руке (это был рассказ о той осени).
Я положила тетрадь на гримировальный столик перед ним.
– Вы прочтёте это – и всё вспомните… – сказала я, ни на что уже не надеясь, и пошла к двери, деревянно ступая негнущимися в коленях ногами. Ощущая спиной насмешливые взгляды зрителей.
– Я прочту! – крикнул Енгибаров мне вслед. – Заходите после спектакля!
Не помню уж, как я добралась до своего места в партере…
* * *
Второй звонок. В оркестре над моей головой исступлённо визжат, настраиваясь на радость, скрипки; прокашливаются, прочищая горло, саксофоны… И вот уже гремит увертюра, вспыхивают софиты, перечеркнув темноту длинными, дымящимися колоннами жаркого света, и чаша амфитеатра постепенно затихает – в предвкушении невиданного, небывалого, что приготовил сегодня для маленьких и больших детей добрый, нестареющий цирк!
Завен!.. Программу вёл Завен – друг и партнёр Нико. Всё такой же подтянутый и стройный, с чёрной гривой волос, ничуть не постаревший в этом заколдованном царстве. Но какой-то потухший, отчуждённый от радостного веселья, царящего в цирке…
Мне казалось: вот сейчас он наконец улыбнётся своей прежней улыбкой, произнесёт дорогое для нас обоих имя – и раздвинется завеса времени, распахнётся тяжёлый занавес – и на манеж выбежит наш любимый Клоун…
Ну, скорее, скорее же! Я больше не могу ждать!
И вдруг в зале стало темно. И только один луч прожектора, перерезав тьму, осторожно прикоснулся к занавесу, отделяющему меня от той весны, от того мартовского дня, когда я прибежала к нему за кулисы старого Московского цирка…
И – занавес распахнулся!
– Весь вечер на манеже клоун-мим Леонид Енгибаров!
Завен сделал широкий, радушный жест рукой, словно приглашая всех сидящих в зале в прекрасное путешествие…
И на арену выбежал Лёня под своим весёлым дырявым зонтиком!
И снова я была в плену его музыки. Его поэзии без слов…
Вот он выходит на манеж под печальную, словно подёрнутую золотым пеплом осени, мелодию блюза. Он весь захвачен музыкой и, кажется, ничего не замечает вокруг: голова понуро опущена, руки в карманах… Новелла о грустном акробате. В течение нескольких минут промёлькнет сейчас перед зрителями вся его жизнь, все её радости и огорчения, которые легко уместить в одно слово – «работа». «Он столько раз терпел неудачи в жизни, – рассказывает Клоун всем своим обликом, – что даже теперь, став сильным, ловким, всё равно не верит в успех».
Сделав поклон публике, Енгибаров начинает в медленном ритме блюза выполнять сложнейшие акробатические трюки, самый блестящий из которых – стойка «крокодил»: он стоит на одной руке, вытянув тело параллельно манежу…
Енгибаров скажет потом: «Я нашёл точку опоры – я держу на одной руке Земной Шар!»
В тот мартовский вечер я услышала свою любимую «Скрипку» немного по-иному, открыв в ней новую глубину.
Скрипка Енгибарова – это не просто Несбывшееся, это – Любовь, превращённая в игрушку, в предмет обихода. Она долго терпит – но, в конце концов, бунтует и, вложив в этот бунт все свои силы, – гибнет… И только после гибели её человек понимает, чем он владел и что он не уберёг. Только теперь, потрясённый потерей, он прозревает – и просыпается в его душе запоздалая Музыка…
Что-то родное, но полузабытое виделось мне в облике Енгибарова. Так бывает, когда идёшь в густом тумане и вдруг замаячит впереди знакомый силуэт, и всё силишься узнать его, до боли напрягая зрение и память…
И я узнала его! Это был… Дон Кихот. Да, да, он самый! Нелепый и нежный, мятущийся, вдохновенный и вновь… осмеянный!
Каждая реприза Енгибарова – это борьба всё с теми же ветряными мельницами, протест против обыденности и скуки, против всего, что превращает человека в жалкую марионетку – без души, без веры, без мечты…
Кульминацией спектакля был номер «Тарелки».
В зале погас свет. Темно. Клоун идёт по узкому барьеру, сосредоточенно глядя под ноги – не оступиться бы в этой кромешной тьме! Под мышкой у него мятая жестяная тарелка. Он идёт по узкому барьеру, освещённый единственным лучом света. Этот луч как будто ведёт его… А там, впереди, зияет пропасть (часть барьера убирали в одном месте). Но человек, идущий по барьеру, доверился лучу…
И вдруг он доходит до разрыва – и отшатывается! Дальше дороги нет.
И тут – полный свет! Гремит музыка. Выходит партнёр (Завен) в чёрном безукоризненном фраке, в белоснежных перчатках, смотрит франтом – победитель жизни! Начинает грациозно жонглировать белыми фарфоровыми тарелками… Он преподает Лёне урок ловкости и предлагает ему проделать то же самое, попытать счастье. Лёня отбрасывает свою мятую тарелку подальше, убегает на секунду за форганг – и возвращается тоже во фраке и в чёрных покорёженных перчатках – где он только откопал их? Фрак длинён и мешковат, явно с чужого плеча, Лёня совершенно утонул в нём…
Итак, он готов испытать свою ловкость! Но… разбивается одна тарелка, другая, третья… И, наконец, разбивается последняя. Потерянное, потрясённое лицо человека, с трудом осознающего, что разбиты все надежды, потеряны все шансы на удачу…
Он медленно снимает фрак, перчатки, осторожно кладёт их на ковёр – это всё принадлежит той жизни, в которой всё казалось возможным, достижимым. Но он уже вычеркнут из неё.
Он возвращается к своей мятой тарелочке – вот она, его реальность.
Гаснет свет. И он уходит с манежа в полной тьме…
Но побеждённым ли он уходит? Разве побеждённым? У этого человека есть мужество говорить правду – правду до конца. Он беспощадно откровенен – и вызывает каждого из нас на ту же беспощадную откровенность, хотя бы наедине с собой.
Да, формально он как будто проиграл – обстоятельства оказались сильнее его. Он ушёл с манежа ни с чем. Но каждый из сидящих в зале уйдёт сегодня из цирка немного другим, в чём-то преображённым…
И это значит, что Енгибаров – победил.
«Я выхожу на манеж не для того лишь, чтобы смешить „уважаемую публику“. Я выхожу на манеж для того, чтобы говорить с „уважаемой публикой“. О добре и зле, благородстве и подлости, о любви и нежности, – скажет он в одном из своих интервью. – Одна газета назвала меня „клоуном с осенью в сердце“. Это приятно. Потому что осень – это раздумье. А ведь без раздумья, замечу вам, без самого серьёзного отношения к жизни нет и не может быть настоящего клоуна. Об этом я помню каждый день, каждый вечер…»
…Смолк оркестр – и публика ринулась в гардероб. Я походила по фойе, набираясь решимости. Почему-то казалось, что во второй раз мне уже ни за что не отыскать его гримёрную. Да и зачем мне идти туда? Смешно и стыдно…
Но ведь он сказал: «Заходите!»
Отодвинула портьеру кулис – и сразу увидела его! Он улыбнулся и пошёл мне навстречу, как будто ждал меня… На нём красная водолазка и тёмный костюм. Ему очень идёт красное – его бледному лицу и чёрным волосам. Он был очень красив в эту минуту.
– Подождите меня у служебного входа, я скоро выйду, – сказал он.
Я стояла неподалёку от служебного входа и смотрела на его портрет. Свет фонарей и тени деревьев пробегали по нему, и лицо на портрете то ласково хмурилось, то улыбалось…
Он не заставил себя долго ждать. Легко, по-мальчишески выбежал из ярко освещённой двери, с синей аэрофлотовской сумкой, перекинутой через плечо, взял меня под руку, и мы пошли по Цветному бульвару к Самотёке.
– Я всё прочёл, – сказал он. – Спасибо вам.
Я быстро взглянула на него – он улыбался.
– А ведь я помню тебя! – неожиданно сказал он. И столько тепла было в его голосе, и в том, что он перешёл на дружеское «ты», что сердце моё дрогнуло и оборвалось. – Я очень хорошо помню тебя. Но ты тогда была посветлее…
– Просто выгорела на солнце…
– А ты знаешь, что я ещё помню?.. «Я пишу тебе письма, я пишу тебе длинные… Опускаю их в ящик, холодный от инея…» Согласись, что у меня хорошая память.
– Потрясающая! – сказала я. И, как ответ на пароль, прочла: «Я карманный вор. Я король карманных воров. Я богат и счастлив. Я почти что счастлив…»
– Жаль только, что никто в кармане не носит сердца, – закончил он.
И я едва удержалась, чтобы не сказать ему то, что хотела сказать ещё три года назад…
Подошли к Самотёке. Площадь была пуста, и мы перешли её на красный свет.
«Значит, он действительно всё помнит, ничего не забыл…»
У входа на Самотёчный бульвар – огромная лужа, целое озеро. Мы свернули на боковую аллею.
– Мой любимый бульвар, – сказал он.
Нигде ни души. Только жёлтые луны фонарей среди тёмных деревьев, да похрустывает ледок под ногами. И мой локоть поддерживает тёплая, сильная рука Енгибарова. Я даже сквозь пальто ощущаю её тепло.
– Ну, как я сегодня работал? – спрашивает он.
– Просто замечательно! И так много… Больше всех в спектакле. И так каждый вечер?
– Сегодня – и ежедневно! – улыбнулся он. – Но это не страшно. Всё-таки меня здорово подлечили. Видишь, как я поздоровел?
– Да, вы возмужали…
– В прошлом году болел долго. Полное истощение нервной системы. Пятьсот спектаклей дал за год, представляешь? И много писал, – добавил он как бы в скобках. – А что тебе понравилось больше всего?
– Мне всё у вас нравится. Но больше всего «Тарелки», пожалуй… За живое берут.
– Я эту вещь очень люблю.
– И «Медали» хороши. Так остро!
– А ты поняла, да? Всё поняла?
– Ещё бы не понять!..
– Ну, а ещё кто тебе понравился?
– Борисов красиво работает, – сказала я, вспомнив молоденького укротителя львов.
– А я не люблю зверей в клетке, – сказал он. – Тоску нагоняют… Лев, прыгающий через верёвочку, – это уже не лев. А по-моему, лев должен оставаться львом. Как мужчина – мужчиной, а женщина – женщиной.
Мы некоторое время шли молча. Я стеснялась задавать ему вопросы, – было дорого то, что он сам рассказывал мне.
– А как ты? Что нового написала с тех пор? – спросил он.
Мы шли по тёмным, пустым аллеям, и я читала ему стихи, которые были адресованы ему одному:
Шуты смеются сквозь слёзы,Но что увидишь под гримом?Шутам не бросают розыК ногам, а хохочут в спину!Такая у них работа.Они выбирают сами.Но только, о ради Бога,Не нужно завидовать славе!Работа – каких немного.Ей жизнь отдана – до капли.Но только, о ради Бога,Не нужно над ними плакать,Когда увидишь без гримаШута…– Читай ещё, – попросил он.
И, вдохнув морозного воздуха, я читала дальше:
А что же делать,коль рождён шутом?Поэтомпод дурацким колпаком!Как жить, что делать,зная, что потом —наверняка! —начнут хлестать кнутом,вдавив между лопаток бубенец…Так, смеха ради,будто не грешно,раз это шут…Я прошепчу: «За что?!»– За то, что шут,но не смешон, подлец!Мы остановились. Он смотрел на меня так пристально, как будто увидел впервые.
– Спасибо, миленький.
Он взял моё холодное лицо тёплыми, ласковыми руками и поцеловал в губы.
– Приходи ещё в цирк.
– Конечно, приду.
– У тебя нет телефона? Жаль… И у меня нет. Но ты разыщи меня. Завтра выходной, а потом приходи. И стихи приноси. Обязательно разыщи меня, ладно?
Мы вышли на площадь Коммуны. В чистом ночном воздухе кружились белые пушистые хлопья… В аллеях бульвара мы и не заметили, что пошёл снег. Дальше нам было в разные стороны, мне – к метро, а он торопился домой – в Марьину Рощу. Там его ждала мама.
– Без меня чай пить не будет, – сказал он. – Ну, не пропадай надолго, ладно?
– Теперь не пропаду! Ваш автобус, бегите…
И он побежал через пустынную, казавшуюся в тот поздний час огромной, площадь. Я проводила взглядом автобус, пока он не скрылся за поворотом, и пошла к «Новослободской». Шла осторожно, неся на своём лице прикосновение его рук, его губ… Шла и думала о его доме в Марьиной Роще, о его маме. Интересно, какая она? Представляла, как они вместе пьют чай, и он рассказывает ей о премьере…
* * *
Он вошёл во двор, освещённый желтоватым светом углового окна.
Две ступеньки покосившегося крыльца, ясень у окна, турник и деревянный настил в глубине двора – всё припорошено снегом… Он сам сколотил этот настил, ещё когда учился в училище, и почти все свои номера отрабатывал здесь – на потемневшей от снегов и дождей домашней эстраде.
Похлопал по крепкому стволу старый ясень – «Привет, дружище!»
Заглянул в окно. Мать сидела у стола, накрытого к чаю, в тёплой телогрейке, накинутой на плечи, и штопала его свитер. Ждала его…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов