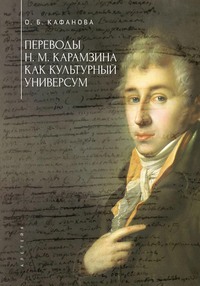
Переводы Н. М. Карамзина как культурный универсум
Пожалуй, можно понять, почему Карамзин не взялся за перевод этой повести. История была лишена всякого динамизма и психологизма и состояла в бесконечных рассуждениях о добродетели и пороке. Заканчивалась она торжеством справедливости. Получив после смерти дядюшки все его имение в наследство, супруги отправились на могилу своего благодетеля и, «наклоняли детей своих к почтенному вместилищу его праха и заставляли их с нежностию лобызать холодный камень» (IV, 165–166). Для Карамзина было уже пройденным этапом подобное прямолинейное отождествление чувствительности с добродетелью. Вместе с тем стилистика этого перевода отличалась некоторой тяжеловесностью, у Мармонтеля все персонажи называются только по фамилиям: г-н Гланси, Л’Ормон, г-н д’Оранбе, которые переводчица сохранила без всякого изменения.
Карамзин-переводчик при довольно бережном отношении к оригиналу заменял редкие французские имена собственные более известными в русском дворянском обиходе. По-видимому, с целью облегчения восприятия Элуа превратился у него в Пьера, Венсан – в Жерара, а Сесиль – в Лизетту и т.д. Однако в целом он не допускал никаких отклонений в передаче конфликта, развития сюжета, основной психологической линии. Некоторые незначительные отступления объяснялись желанием сделать повести понятнее русскому читателю. Он отказался от русификации и в то же время сумел избежать буквализма, свойственного всем предыдущим русским переводам «Нравоучительных сказок» Мармонтеля. Очень трудно, например, понять смысл следующей фразы из переводной повести 1777 г.: «Этого мало было, чтоб иметь краску цветов, но и тело ея имело оных нежность и тех приятных и вешних листочков, которые еще никак не увяли»116.
В карамзинском переводе отчетливое воплощение получили главные художественные признаки conte moral: моральная проблематика, ориентация на достоверное и обыденное повествование, тип чувствительного рассказчика и, наконец, образы чувствительных героев. Это был образец для возникающей на русской почве сентиментальной повести. Карамзину удалось преодолеть книжную затрудненность и искусственность форм русского литературного языка117, в чем ему в большой мере помог опыт передачи стилистики повестей Жанлис. Однако как раз выработанные им в процессе предыдущих переводов сентименталистская лексика и фразеология «накладывались» на стиль Мармонтеля и несколько его трансформировали. В отличие от строгой и лаконичной манеры французской беллетристки, Мармонтелю было свойственно пристрастие к «украшениям»: изысканным метафорическим и перифрастическим оборотам, синонимичным эпитетам, сложным синтаксическим периодам и т.д. Карамзин несколько «подгонял» стиль Мармонтеля к своему представлению о чувствительном способе повествования. Разбивая синтаксические периоды, устраняя некоторые сложные метафоры, и добавочные эпитеты, Карамзин добивался большей простоты и определенности в выражении чувств:
Мармонтель«… je mêlais mes larmes aux siеnnes» (IV, 250)118.
(… я смешивал мои слезы с ее слезами).
Карамзин«Я вместе с нею плакал…» (I, 286).
Мармонтель«Ce jeune homme a <…> quelque passion dans l’âme» (IV, 334).
(В душе этого юноши <…> какая-то страсть).
Карамзин«Этот молодой человек, верно, влюблен» (V, 113).
Мармонтель«Tu as pris dans le monde, lui dis-je, une inclination» (IV, 329).
(У тебя есть в свете, – сказала я ей, – какая-то привязанность).
Карамзин«Ты любишь, сказала я, любишь…» (I, 105).
Карамзин расцветил свой перевод лексикой, ставшей «ключевой» для сентименталистов. Он нередко прибавлял отсутствующие в оригинале эмоциональные эпитеты и существительные, которые способствовали созданию сентименталистского психологизма. Наиболее употребительные среди них: «сердечный», «любезный», «горестный», «нежный», «нежность», «несчастный», «робкий», «кроткий», «чувствительный», «чувствительность»:
Мармонтель«… ses beaux yeux <…> brillaient d’une humide langueur» (IV, 249).
(… ее прекрасные глаза блистали влажной томностью).
Карамзин«… в прекрасных глазах ее <…> видна была нежная томность» (I, 284).
Мармонтель«L’expression qu’il mit à ces mots <…>» (IV, 333).
(Выражение, с которым он произнес эти слова <…>).
Карамзин«Нежность, с какою произнес он слова <…>» (I, 112).
В следующем примере с помощью добавочных эпитетов «искренний», «чувствительное» (сердце), а также трансформации глагола «inspirer» (внушать, наставлять), лишенного стилистической окраски, в «трогать», Карамзин внес чувствительные интонации в слова сдержанной и суховатой женщины, изменяя тем самым весь ее облик:
Мармонтель«Quand-même la cause de votre malheur me serait étrangère, lui dit ma sœur, je m’y intéresserais par tous les sentiments qu’un vertueux amour inspire» (IV, 336–337). (Даже если бы причина вашего несчастья меня совсем не касалась, – сказала ему моя сестра, – то я бы приняла в нем участие хотя бы из чувств, которые внушает добродетельная любовь).
Карамзин«Естьли бы причина вашей горести была мне и совсем посторонняя, сказала ему сестра моя, то и тогда бы взяла я в ней искреннее участие, потому что добродетельная любовь трогает всякое чувствительное сердце…» (V, 117).
Неприятие всего мистического, противоречащего жизненной правде, наложило отпечаток на все публикации «Московского журнала». Небольшие сокращения и комментарии Карамзина при переводе «Валерии», так называемой «италиянской повести» Ж. П. К. Флориана (Florian, 1755–1794), существенно изменили ее нравственное звучание119.
У Флориана перипетии любви Валерии и Октавия поданы как доказательство существования сверхъестественного в жизни человека, а повествование ведется от лица самой героини, умершей и вновь воскресшей. Карамзин устранил все рассуждения о вере в чудеса и привидения, опустил аргументацию автора в защиту правдивости описываемого (более трех страниц). Он скептически отнесся к точно переведенной им вставной истории «несчастного Лионского супруга», «который в исступлении ревности убил жену свою и потом всякую ночь, в одиннадцать часов, видел ее приходящую к его постеле в зеленых туфлях». Однако в отличие от автора, который признавал эту историю «в самом деле весьма достоверной», Карамзин счел необходимым добавить: «Нет нужды сказывать читателям, что Флориан шутит»120.
Общефилософская позиция Карамзина, отвергающая мистицизм121, предопределила применительно к повести ее важнейший признак – жизненно-реальную основу. В переводе Карамзина сюжетная линия подчинена изображению всепобеждающей силы любви, а факт воскрешения девушки не исключал его объяснения естественными причинами. Лексика, фразеология и синтаксис в переводе Карамзина подчинялись психологическим задачам. Так же, как и в собственных произведениях 1790-х гг., Карамзин делал акцент на интонационно-выразительных средствах, используя приемы анафоры, инверсии, повтора. Можно сравнить перевод Карамзина с другим современным ему буквальным переводом:
Перевод Безака«Как ни надеялись и не принуждали себя удалить напоминание сие, но оно беспрестанно мне представлялось, и я всегда старалася не мыслить об Октавии»122.
Перевод Карамзина«Тщетно хотела, тщетно старалась истребить в душе моей это приятное воспоминание! Оно всегда возобновлялось, и я беспрестанно думала о том, как бы не думать о неверном» (VII, 300–301).
Перевод Безака«… уста мои, столь сильно и нежно жатые испустили вздох»123.
Перевод Карамзина«… нежные огненные поцелуи извлекли тихий вздох из груди моей» (VII, 308).
Перевод Безака«Тут мысли мои остановились: но я понимала, что говорят, разумела, что нахожусь у Октавия, видела, что он так нежно жал мне руку; и любовь моя никогда меня не покидавшая, ежеминутно приводила мне на память прошедшее»124.
Перевод Карамзина«Более ничего не воображала, однако ж разумела, что говорили; знала, что я в доме у Октавия, и что он, он жмет мне руку – он смотрит на меня умильно! Чувство любви было главным и всегдашним моим чувством; мало-помалу возбуждало оно и другие воспоминания в душе моей» (VII, 309–310).
Из беглого сопоставления двух переводов очевидно не только, насколько язык Карамзина более легок, изящен и современен в нашем понимании этого слова; еще важнее другое свойство: ритмические периоды и анафоры придают переводу суггестивность, вовлекающую читателя в эмоциональное сопереживание. Вместе с тем Карамзин, как и в своей оригинальной прозе, использовал в переводе приемы, способствующие большей динамичности повествования.
Перевод Безака«Мать моя едва за мною не последовала; отец был в отчаянии; Геральди же оплакивал богатство мое: но ничто уже не могло облегчить несчастия сего»125.
Перевод Карамзина«Родители мои были в отчаянии – Эральди плакал о моем богатстве» (VII, 306–307).
Карамзин значительно сократил текст, пропустив перечисление и использовав тире как средство замещения и противопоставления двух состояний – истинного горя и корысти. Он обращал внимание и на характерологическую функцию речи героев. Точно воспроизведя рассуждение Валерии об особенностях происходящей войны, более уместное в устах умудренного политика, он сделал знаменательную ремарку: «Мне кажется, что это не есть язык женщины» (VII, 299). Тем самым он как бы напоминал читателям, что не является автором произведения и не волен переделать его по собственному вкусу. Тем не менее, повествование приблизилось в целом к сентименталистскому, а его автор предстал в большей мере «любезным философом и чувствительным человеком» (так Флориан был охарактеризован в переводной рецензии)126.
Все беллетристические переводы «Московского журнала» были не только подобраны, но и интерпретированы в духе сентименталистской поэтики. Произведения Мармонтеля дополнялись в «Московском журнале» другими французскими образцами малой прозаической формы, которые прекрасно сочетались с двумя отрывками из романов Л. Стерна под названием «Мария», небольшими рассказами А. Коцебу и другими произведениями. Вместе с собственными сочинениями Карамзина – повестью «Бедная Лиза» (опубликованной впервые в «Московском журнале») – это была та новая проза, в которой расшатывались основы рационализма, представлялся новый жанр, давались образцы сентименталистского психологического повествования.
Эстетическая ценность каждого конкретного произведения определялась для Карамзина степенью его соответствия эталону «чувствительности». В «Московском журнале» он представил в своем переводе портреты трех авторов, – с его точки зрения, «чувствительных» в полной мере. Это очерки о Клопштоке, Геснере и Виланде, о которых речь пойдет в специальной главе. Однако Карамзин словно задался целью продемонстрировать, что «чувствительность» как комплекс простоты, естественности и эмоциональности в изображении природы и внутреннего мира человека свойственны авторам разных культур и эпох. Творения древнеиндийского поэта и драматурга Калидасы, кельтского барда Оссиана и английского романиста XVIII в. Стерна обладали в его глазах в равной мере наивысшими достоинствами. Если «нравоучительные» истории Мармонтеля, Флориана и других беллетристов, специально рассчитанные на журнальное чтение, Карамзин переводил в полном объеме, то художественно совершенные образцы были представлены небольшими фрагментами. Карамзин представил отдельные отрывки из «Сакунталы», две оссиановских поэмы и две главы, посвященные описанию Марии из двух романов Стерна. Публикацию этих переводов он снабдил обстоятельными предисловиями и примечаниями, в которых раскрывал их эстетическую значимость.
Близко к «нравоучительным сказкам» (или повестям) примыкали всевозможные рассказы о конкретных людях и событиях: фрагмент из материалов судебного процесса над известным итальянским авантюристом: «Жизнь и дела Иосифа Бальзамо, так называемого графа Калиостро»; статья немецкого историка И. В. Архенгольца (Archenholz, 1743–1812) «Кораблекрушение в Южном море, в 1790 году. Отрывок из четвертой книги Британских летописей»; рассказ «Последний час Иакова II, переведенный из «Deutsche Monatsschrift» и другие. В них документальная основа получала художественную интерпретацию.
Например, Август Коцебу (Kotzebue, 1761–1819), предисловие которого точно воспроизвел Карамзин, отмечал, что предлагаемая им история Марии Сальмон была напечатана в газетах. Однако он считал, что «краткость, которую должен соблюдать в повествовании сочинитель ведомостей и холодный слог его не могут удовольствовать чувствительного сердца» (IV, 13). Именно подробности, касающиеся душевных переживаний героини, а не сухие факты, констатирующие предъявленное ей несправедливое обвинение и последующее оправдание, представляли интерес для автора, переводчика и нового, «чувствительного» читателя.
Эмоциональное воздействие многих переводных историй усиливалось благодаря установке на достоверность. «Английский анекдот», переведенный из «Mercure de France», посвящен, к примеру, описанию молодой прекрасной женщины, окруженной ореолом тайны: она слывет сумасшедшей; одинокая, живет около Бристоля, вызывая всеобщее сочувствие. По утверждению автора, история эта «совершенно справедлива, и без всяких вымыслов, без всяких украшений тронет тех, которые родились с нежным и сожалительным сердцем – для них она и написана» (VII, 155). Можно добавить, что для подобных читателей, способных к сочувствию, она и переводилась.
В «Историческом анекдоте» («Anecdote historique, tirée d’une ancienne chronique d’Allemagne») Л. С. Мерсье (Mercier, 1740–1814), источником которого была, якобы, древняя немецкая хроника, рассказ о зверском убийстве жениха накануне свадьбы вызывал большее сопереживание благодаря указаниям на истинность события. Карамзин использовал прием, усвоенный и применяемый им в оригинальном творчестве. Вместе с тем для него важна была прежде всего психологическая достоверность: он выпустил начало и конец истории, где содержались сведения о родословной погибшего героя, а также проигнорировал упоминание о душах убийц, якобы «блуждающих долгими ночами вокруг места преступления», наводя страх на заблудившихся путников (VIII, 70–76).
Интерес представляет работа над переводом «Письма из Рима» (от 6 ноября 1786 г.) К. Ф. Морица (Moritz, 1756–1793), взятого из его «Путешествия немца по Италии в 1786–1788 годах». Карамзин своими сокращениями и стилистическими изменениями добился впечатления правдивой и «чувствительной» были. В оригинале трагическая развязка любви знатного юноши и мещанки имеет подчиненное значение и рассматривается как обвинение самому папе (письмо так и называется «Der Pabst»). Карамзин опустил около трех страниц и перевел только то, что непосредственно относилось к «происшествию», которое могло бы послужить «прекрасным содержанием для трагедии» (VIII, 154).
Он изъял также замечание автора о том, что тот не хочет ручаться за подлинность отдельных деталей: («eine Stadtsgeschichte, <…> für deren Authencität in den einzelnen Stücken ich aber nicht bürgen will»127). Его внимание целиком сосредоточилось на истории глубокой любви, помехой которой явилось социальное неравенство. Чувствительность героев подчеркивалась стилистическими средствами. Карамзин ввел дополнительные эмоционально-оценочные эпитеты, относящиеся к душевным качествам: «чувствительный», «нежный», а также добавил упоминание о слезах как внешнем признаке способности чувствовать. Сравните:
Текст Морица«Mit einem Fernrohre blickt der junge Mann <…> nach der Wohnung seiner Geliebten, während dass sie ihre zärtlichen Blicke nach jenem hochaufgethürmten Gebäude richtet, in welchem ihr Geliebter, um ihrentwillen seiner Freiheit beraubt, in seinem Kerker nach derjenigen seufzet, die sich als die Ursache seines Unglücks unaufhörlich anklägt»128.
Перевод Карамзина«Молодой человек <…> смотрит в телескоп на жилище своей любезной, которая обращая нежные взоры на оное грозное здание, в котором чувствительный юноша за любовь к ней томится и страдает, беспрестанно обвиняет самое себя как причину его несчастия, и проливает горькие слезы» (VIII,155).
У Морица просто констатация факта, у Карамзина – зрительно воспринимаемая картина страданий и горя двух разлученных возлюбленных.
В беллетристических переводах «Московского журнала» происходит постоянное смешение: описания жизненных фактов приобретают художественное воплощение, а художественные произведения ориентируются на достоверность и правдоподобие. В целом переводная беллетристика дополняла и оттеняла оригинальные произведения Карамзина, способствуя утверждению сентименталистских принципов и малой жанровой формы. Вместе с тем это была добротная занимательная проза, составляющая большой массив в журнальных материалах и представляющая интерес для читателей, число которых увеличивалось от месяца к месяцу.
Глава 2. Две «Марии» Стерна: сентиментальная история чувствительной героини
Карамзин явился одним из первых ревностных пропагандистов творчества и личности Л. Стерна в России129. Вместе с тем обращение к наследию английского сентименталиста было серьезным моментом в эстетическом самоопределении русского писателя и новой ступенью в его переводческом мастерстве.
Первые образцы психологической прозы, вошедшие в русскую культуру XVIII в., были переводными. Однако произведения Руссо, Гëте, Ричардсона и других западноевропейских авторов, открывших в литературе неповторимый внутренний мир человека и сложность его чувств, неузнаваемо деформировались на русском языке. Карамзин, направляя свои усилия на подъем общеязыковой культуры, создавал основу для передачи новых понятий, выражающих эмоциональную сферу жизни. Ко времени издания «Московского журнала» он уже прошел хорошую переводческую и стилистическую школу, систематически занимаясь переводами, а также усовершенствовав свои знания иностранных языков во время европейского путешествия. Своеобразной вершиной переводческого искусства Карамзина в начале 1790-х гг. стали переводы из сочинений Л. Стерна и Оссиана, – двух авторов, отличающихся своеобычной поэтикой, передача особенностей которой и являлась пробным камнем для переводчика. Второй трудностью для Карамзина был английский язык. Однако обращаясь не к целостному произведению, а к фрагментам или малой форме «песни», он смог с честью справиться с поставленной задачей.
В переводах из Стерна – автора, отличающегося тонким мастерством психолога, он до известной степени смог реализовать свои требования смысловой точности и одновременно «гладкости», «чистоты» и «приятности», и дал, таким образом, еще до появления собственных повестей, пример психологического повествования. Карамзина привлекла история Марии, французской девушки, которая проходит через оба романа английского писателя – «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» («The Life and Opinions of Tristram Shandy Gemtleman», 1759–1767) и «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» («A Sentimental Journey Through France and Italy», 1768).
Во второй книжке «Московского журнала» в апреле он поместил свой перевод под названием «Мария. Перевод с английского». Карамзин снабдил его указанием на произведение и краткой характеристикой автора. В примечании говорилось, что это «отрывок из Тристрама Шанди, сочинения англичанина Стерна, оригинального, неподражаемого, чувствительного, доброго, остроумного, любезного Стерна». Карамзин подчеркнул и достоверность эпизода, рассказав, что во время своего путешествия во Франции автор «подлинно видел сию несчастную Марию, жертву чувствительности и любви. Затем он пообещал в следующем номере журнала сообщить и то, что Стерн говорит об этой героине «в другом своем сочинении, Sentimental Journey» (II, 51).
Действительно, уже в следующей майской книжке «Московского журнала появился второй отрывок под названием «Мария», взятый из «Сентиментального путешествия». И вторая публикация сопровождалась важным добавлением: «Отрывок из Стернова путешествия. Перевод с английского» (II, 179).
Несмотря на то, что Карамзину были известны французские и немецкие переводы романов Стерна, на этот раз он обратился непосредственно к языку оригинала. Таким образом, он поместил рядом два отрывка из разных романов английского писателя. В первом из них, взятом из двадцать четвертой главы девятой книги «Тристрама Шенди» девушка изображалась как «жертва любви», поскольку из-за нее потеряла рассудок. Во втором фрагменте из «Сентиментального путешествия» давалась предыстория трагедии и описывалась счастливая пора в существовании героини, воспринимающей жизнь как радость, сулящую ей любовь и счастье.
Важно для восприятия истории Марии в изложении Карамзина то, что она была изъята из общего контекста. Л. Стерн сопровождал «первую» историю комментариями, в которых фактически демонстрировал приемы своей поэтики. Он пояснял читателю, что предстоящая часть составляет «самый лакомый кусочек» («the choicest morsel»), который он может ему предложить. Чувствуя, якобы, недостаточность своих сил, он обратился с «воззванием к музе», «любезному духу сладчайшего юмора». Заключительная фраза главы: «Какая прекрасная гостиница в Мулене», следующая непосредственно за сценой прощания Шенди с несчастной девушкой, подвергала сомнению трогательность всего эпизода130. Таким образом, юмор и ирония были для Стерна способом снятия излишней сентиментальности.
Карамзин, способный к юмору и иронии, что он доказал во многих своих оригинальных сочинениях и комментариях к переводным произведениям, в этом случае постарался устранить ироническую интонацию и придать истории Марии сентиментально-меланхолическую тональность. Особенно это очевидно при переводе по сути комической сцены оправдания Шенди-рассказчика перед читателем за неуместные шутки:
Стерн«Maria look’d wistfully for some time at me, and then at her goat – and then at me – and then at her goat again, and so on, alternately –
Well, Maria, said J softly – What resemblance do you find?
J do entreat the candid reader to believe me, that it was from the humblest conviction of what a Beast man is, – that J ask’d the question; and that J would not have let fallen an unseasonable pleasantry in the venerable presence of Misery, to be entitled to all the wit that ever Rabelais scatter’d – and yet J own my heart smote me, and that J so smarted at the very idea of it, that J swore J would set up for Wisdom, and utter grave sentences the rest of my days – and never – never attempt again to commit mirth with man, woman, or child, the longest day J had to live.
As for writing nonsense to them – J believe, there was a reserve – but that J leave to the world.
Adieu, Maria! – adieu, poor hapless damsel! – <…> she took her pipe and told me such a tale of woe with it, that J rose up, and with broken and irregular steps walk’d softly to my chaise.
What an excellent inn at Moulins»131.
Карамзин произвел некоторые лексические замены: в его переводе дано сравнение человека с «бессловесным животным» взамен грубого его уподобления «скотине»; довольно абстрактное выражение «шутить с ближним своим» заменяет нарочито конкретизированное перечисление Стерна: «с мужчиной, женщиной или ребенком». Карамзин сознательно опустил упоминание о великом французском сатирике Рабле, прославившемся своим грубоватым смехом, как и замечание автора о намерении и впредь писать «вздор» («nonsense»):
Карамзин«Мария томно посмотрела на меня, потом на свою козу, потом опять на меня и опять на свою козу.
Какое же сходство находишь ты, Мария, между нами? Сказал я тихим голосом.
Здесь прошу добродушного читателя поверить мне, что вопрос сей сделал я от смиренного уверения в сходстве человека с бессловесным животным, и что я не хотел бы употребить непристойной шутки в почтенном присутствии бедности, естьли бы через нее мог прослыть и первым остряком в свете. Однако ж собственное мое сердце билось, и одна мысль о сем была для меня так мучительна, что я клялся посвятить себя мудрости, до самой смерти не говорить ничего, кроме важного, и никогда, никогда уже не шутить с ближним своим, как бы еще не долог был день моей жизни.
Прости, Мария, прости, несчастная Мария!
<…> она <…> взяла свою свирель, и рассказала мне на ней такую печальную повесть, что я вскочил, и неровными и беспорядочными шагами тихо пошел к своей коляске» (II, 55–56).
Все эти не очень существенные отступления придали отрывку иное звучание: рассказчик «раблезианского» типа превратился в «чувствительного» автора, а повествование приобрело единую меланхолическую тональность. Вместе с тем устранение всего одной фразы в конце несколько менял финал, потому что акцентировал внимание не на путешественнике, который устраивался в прекрасной гостинице, а на Марии, играющей на свирели. Тем самым как бы «перекидывался мостик» ко второму фрагменту, в котором она через музыкальные ассоциации как бы рассказывала историю своей несчастной любви.
Второй текст представлял более точное воспроизведение нескольких глав из «Сентиментального путешествия»: «Мария. Мулен – Бурбонне» («Maria. Moulins – The Bourbonnois»). Два фрагмента, переведенные Карамзиным, превратились в одну сентиментальную повесть. Сам он, по-видимому, был доволен результатом, потому что позднее, в 1816 г. включил «Марию» в сборник «Разные повести».