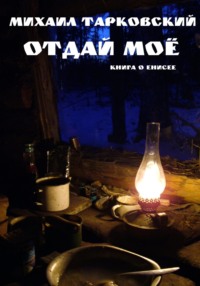
Отдай моё
– Зараза, дрова – пихта, – Митя ударил на «а», – кхе-кхе, дымят, стреляют – спальники бы не спалить.
Мефодий с раздражением и осуждением отрезал:
– Да какие-бы не были, хрен с ними, лишь бы закончить скорее, да в Москву!
Поднялись до места, сделали работу и вернулись в Дальний, спустившись за день, и в мелких местах сплавляясь на шестах. Мефодий торопился, думал о предстоящей дороге. Приехав в Дальний, Митя посадил его на баржу, и не разбирая вещей, уехал к Хромыху.
Гена разбудил его в седьмом часу, и пока он умывался, долго что-то доувязывал, переставлял в ящиках, негромко и глухо переговариваясь с женой. Та сосредоточенно дособирала мешочек с шаньгами. Укрытый "буран" с вечера стоял на берегу. Рядом чернела на бревёшках-покатах десятиметровая деревяшка, свежесмолёная, длинная, как пирога, похожая на какой-то древний музыкальный инструмент. Борт её возле носа ломался наподобие грифа. Нос был длинный, высоко поднятый. Острый, как бритва форштевнь или по-кержацки, носовило, был вытесан из кедрового бруска, на самом конце он торчал квадратным четвериком, снизу которого была выбрана изящная, как у свистка, фасочка. Снегоход загнали по доскам своим ходом, синий дым повис слоями и, растягиваясь, долго и тягуче сплавлялся вместе с течением. Рядом сухонький дедок Дядя Илья сталкивал лодку.
– Ты куда, дедка? – спросил его Хромых.
– Да на виску поеду, там у меня на животь мордочки стоят, – деловито ответил дед, и Митя только потом, ведя записи, понял, какой тарабарщиной для непосвященного могут показаться эти слова, означающие, что на вытекающей из озера протоке у дядя Ильи стоит ловушка для ловли животи – озёрных гольянов, на которых зимой промышляют налимов.
В речке Митя заправски уселся на носу и попытался указывать Геннадию куда, ехать. Тот заглушил мотор и сказал:
– Ты, во-первых, не ори, а, во-вторых, руками не маши, я и так всё вижу.
В деле Хромых оказался другим, чем в деревне – жёстким пахарем, подчас грубым, требующим участия, чутья. Орал на Митю, когда тот при спуске переката не в ту сторону толкался шестом или таща лодку по меляку, направлял не в ту "ходову". Собак за неповиновение, скулеж или грохот в момент, когда требовалась тишина, лупил шестом куда придется. Рыжика, когда тот попытался выпрыгнуть из отходящей лодки, сгрёб за шкуру на холке и заду и швырнул обратно на канистры.
Всё у него было чётко, отработано. Никаких шпонок они не меняли – на моторе стояло ограждение – что-то вроде ковша из стальных прутьев. Когда надо было окликнуть Митю, сидящего лицом по ходу, он качал лодку двумя-тремя вескими качками – шуметь запрещалось, чтобы не спугнуть зверя. Лодка была на редкость ходкая. И мотор на ней стоял легкий и плотно закрепленный, если его отпустить, он не крутился вправо-влево. В мелких местах, Гена бросал его работать и, зверски морща лицо, толкался шестом, так, что тот пружинисто изгибался, а на совсем меляках, ставил на нейтраль и, выпрыгнув, толкал лодку за борт, упираясь сильным телом.
Спускаясь вниз, они, стоя один на корме, другой на носу, шестами тормозили, останавливали лодку, и не меняя её положения, переталкивались в любое место и попадали в нужный слив. Митя вспоминал Мефодия, который только хуже разгонял лодку, отчаянно толкаясь меж надвигающихся камней. Засыпая, он видел воду, туго прущую меж валунов, и под нависающим носовилом – витую, упруго скользящую гладь, по ту сторону которой всё – и рыжие осколки плит, и камни в неестественно-зеленом мху, и галька – казалось гораздо ярче и отчетливей, чем по эту.
К спиртному Гена был равнодушен, водки брал мало. Никаких душевных посиделок у них не было, в одиннадцать в нажаренной избушке объявлялся отбой, а в седьмом часу подъём в темноте и отъезд в сумерках. Дел предстояло много: заготовка птицы, рыбы, мяса.
Первых сохатых – быка, матку и тогуша, Серый с Шорохом и Веткой поставили с хребте. Митя думал, собаки будут кидаться, виснуть, но Серый, крупный рыхло одетый кобель, бегал, полаивая, перед мордами, в то время как сохатые стояли, нервно и торопливо облизываясь. Когда Серый подбежал особенно близко, огромный бык протяжно фыркнул, угрожающе опустив навстречу кобелю рогатую голову. Митя не понимал, почему Геннадий, держа наготове карабин, всё не бьет, и тот, будто прочитал мысли:
– Не будем мы наверно бить их – таскать далеко. Я тебе просто хотел показать, как собаки работают. Ничего, вверху добудем.
– Какое "вверху"? – думал Митя, – вверху, как назло, не будет ни лешего – пока есть надо бить. Подумаешь, триста метров – я бы без разговора стаскал.
На следующий день они уехали вверх, и там собаки выгнали двух сохатых из лесу на жухлую, припорошенную снегом, паберегу, и загнали прямо в реку, где они тупо стояли стояли, озираясь и облизываясь. Серый сделал несколько заходов в воду, и сохатуха, прижав уши, кидалась на него, пытаясь втоптать в воду, била копытом со страшным плеском и грохотом, вздымая фонтаны тяжелой стеклянной воды, но каждый раз не попадала, и кобель проворно выбирался на берег. До сохатых было метров сто двадцать. Гена стрелял с колена. Медленно подняв карабин, будто боясь что-то из него пролить, он выцелил быка и нажал на спуск, но боек дал осечку. Мите казалось, что Гена очень долго передергивает затвор, звук был сухим и податливым. Грянул выстрел – громко, коротко и тоже сухо. Зверь куда-то побрел, а потом стал плавно и медленно валиться набок, отвернув голову. Взбив монументальный пласт воды, он рухнул. Собаки, всё это время истошно лаявшие, ползали по плывущей туше, как по кочкарному островку. Гена с Митей подъехали на лодке и подтащили добычу к берегу перед самым перекатом.
Кровь стекала в тугую и неторопливую черную воду, вдоль берега белел ледок, и была какая-то густая предзимняя правота, – и в этой крови, и в большой тёмной печени, всё норовившей съехать, стечь, куда её не положи, и в нежном и желтом чешуйчатом жире, которым были обложены внутренности, вообще во всём этом горько пахнущем переваренными тальниками, парящим и чистом нутре, где так хорошо было подстывшим рукам. Потом сплавлялись к избушке, кидая спиннинги.
На ровном и глубоком, метра полтора, плёсе, брали ленки. Пока Хромых тащил одного, второй погнался за Митиной блесной, и, идя впритык, дошел почти до лодки. Митя попытался подсечь его, топя и поддергивая блесну, но ленок выписал вокруг неё шальную и упругую восьмёрку и ушел. Митя хорошо видел его рыщущую морду, как у огромной лягушки, и рука еще ощущала запоздалый и неверный ответ лески, когда тройник скользнул по рыбьему боку. Он закинул еще раз и, едва стал подматывать, леску дёрнуло и потянуло. Митя подтащил упирающуюся рыбину и, не водя, перевалил бьющийся и блестящий оковалок в лодку. Ленок был даже не толстый, а весь туго накаченный породистой плотью, все нем поражало тройной прочностью и плотностью – губы, жировой плавник в конце спины, лиловая, будто опаленная, боковина брюха. Темный в воде, на воздухе он казался покрытым несколькими слоями красок, каждый из которых светился под своим углом. Бока были золотыми, и одновременно по золоту полыхали большие и огненные, цвета семужьего мяса, мазки. Все тело осыпал крап, и все оно объемно отливало фиолетовым металлом, как блестящая отожжёная труба.
Поймали по нескольку ленков, а ниже, в длинной и узкой яме под берегом с полмешка щук на корм собакам. У избушки лодку затащили в ручей на камни. Выйдя в сумерках, Митя долго, прищурясь, смотрел на несущуюся вдоль бортов воду, и окруженная белой пеной лодка с окаменевшим мясом казалась вечно подымающейся вверх по ручью.
– Ну вот. Еще один трудовой день, – сказал Геннадий, выкладывая на дощечку серый вареный язык, наливая по стопке, и по-хозяйски убирая бутылку.
Уже лёжа на нарах, он рассказал, как след соболя привел его к высокому кедровому пню, он ударил по нему топориком, половина пня отвалилась, и Гена отшатнулся: из ниши выпал детский скелет. Оказывается, остяки хоронят своих детей в колодах, сшитых деревянными шпильками, причем обязательно лицом к реке. Старый охотник-кет сказал Гене, что хоронить детей в земле грех, пока у них зубов нет, "их все равно земля не удёрзит – они улетают". Поэтому и хоронят их в лесине, чтоб они не вернулись в чум.
Взрослых закапывали в землю, обмыв в чуме и одев в лучшую одежду. В одежде делали прорези, отрезали кончики обуви – чтобы душа вышла. Она должна была помогать детям покойного. Около могилы оставляли дымящийся костер: "Далеко не ходи, вот тебе огнишко".
Уходили от могилы гуськом. Сзади всех шел отец покойного или другой старый человек. Он клал позади себя поперек тропинки палку, чтобы покойник не пришел в чум. Говорили, чтоб не оглядывался назад, мол, дорога твоя на белый простор закрыта.
Выходило, что с одной стороны хотели задобрить покойного, заручиться поддержкой в будущем, с другой – наоборот оградиться, обезопасить себя. " Как дети", – подумал Митя.
Гена подтопил печку и захрапел, а Митя представлял детские души, улетающие из земли странными птицами, и вспоминал, как умирала бабушка. Когда она отошла, они с мамой, стыдясь наготы, плотно прикрыли её тело одеялом, и медсестра, пришедшая сделать бальзамирующий укол, устроила истерику: надо было прикрыть простыней, а не тёплым одеялом. "– Вы мою жизнь под угрозу ставите!" – орала сестра, и на фоне горя её забота о собственной жизни казалась чудовищной.
Хромых иногда весной по насту заезжал на участок через Дальний. В один из таких заездов он обронился, что собирается ехать за дерёвами – заготовками для лыж. Митя попросился в напарники.
– Когда за дерёвами поедем? – спросил Митя через несколько дней Геннадия по рации, – а то так без лыж и останемся.
Гена сказал, что некогда, а наутро загремел "буран" у крыльца, и грохнув в сенях карабином, он ввалился одетый в дорогу.
Стоял морозец, апрельское солнце било в глаза, ветер обжигал. На Енисее снег был волнистым и твердым, как железо. В неистовом облаке снежной пыли Митя сидел, вцепившись в сани.
Больше всего интересовало, как Гена выбирает ёлку. В ельнике лежал крепчайший наст. Они с полчаса бродили, и Гена делал на стволах затёску топором и, зачистив мерзлую болонь, смотрел на слои, которые должны быть прямыми и вертикальными. Наконец выбрали и свалили ель, отпилили кряж. Из нетолстой наклонной березы, в белую древесину которой острый топор входил легко и косо, Гена вытесал колотушку, а из привезенной с собой листвяжной получурки – три острых и гладких клина. Накололи кряж с торца. Гена приставлял лезвие топора, а Митя, взяв колотушку за сыро-холодную рукоятку, ударял, а потом в образовавшуюся щель вставили клинья и били по ним колотушкой.
– Не торопись, жди пока сама треснет. Ей только помогать надо.
С каждым ударом клинья всё глубже уходили в торец, разваливая ёлку на две плахи. Ширилась щель, после удара, дерево продолжало само, скрипя, расщепляться, трудно слезая с редких сучков. Здесь-то и требовалось не торопиться. Когда клинья были уже ближе к концу, кряж с гулким колокольным звуком разлетелся на две ровные, в продольных жилах, плахи. Гена указал на продолговатые пазухи, заполненные прозрачной, как мёд смолой:
– В мороз дерево качает ветром, древесина лопается, и смолой это хозяйство заполняется. Ладно, сейчас на доски колоть будем.
Точно так же, действуя клиньями и колотушкой, раскололи обе плахи, и получилось пять досок – четыре на лыжи и лишняя серёдка. Когда кололи последнюю доску, скол пошел было вбок, но Гена уверенно сказал:
– Если сойдет – мы её с другой стороны заколем.
Пока перекуривали, рассказал, как исколол на плашник для крыши отличную сухую и толстую ёлку, а напарник ругал его: "-Не мог на лыжи оставить", и как потом взял с крыши пару досок на лыжи, и дальше брал ещё не один год, залатывая крышу избушки "всякой бякой".
Когда валили и кололи вторую ёлку, пробрасывал снежок. Митя оступился в наст, таща плахи к саням, и даже в пасмурном свете глубокий след был бесконечно синим изнутри. Казалось синева шла от самой Земли, и почему-то Земля вдруг представилась откуда-то совсем издали – синей и маленькой. Когда пили чай Гена сказал задумчиво и твёрдо:
– Скоро за гусями поедем.
И добавил:
– Да… Клин – великое дело. Дед у меня сто два года прожил. Раз листвень принесло, – Гена показал руками, – здоровенная, витая, страшное дело. С ней никто и возиться не стал, хватало леса, а дед её испилил и клинышком на поленья переколол.
Митя представил крепкого, как кряж деда, которому казалось, что непорядок, если деревина так и останется лежать или где-нибудь затонет, замытая и избитая льдом, и её тысячелетнего настоя жар никому не пригодится.
Вернулись с полными санями дерев, которые теперь предстояло строгать и загибать в специальном станке – бале.
А дело вовсю катилось к весне. "Деревня вытаивает, по угору не проедешь – мало снега, зато на Енисее ещё зима, ещё ледяным ветром вовсю студит, катает дорогу. Почему весной время как с цепи срывается?" – писал Митя в дневнике, глядя в окно на длинные размытые облака, за горизонтом будто стянутые в узел, и оттуда как вожжи, веером расходящиеся по всему небу. И продолжал за полночь: "На дворе подмораживает после длинного апрельского дня. Снег у крыльца утоптан до влажного блеска. Непривычно мягкий кедрик пошевеливает иглами, а в вышине вздрагивает оттаявшими звездами нестрашное черное небо. Солнечными днями снег по краю угора тает и отступает, а ночью застывает косой и игольчатой щеткой – кораллами и губками, глядящими на юг. С каждым днем иглы всё короче, и, кажется, прячутся в землю до осени.
А осенью опять загустеет время, и вспомниться, и как гулко разлетается на плахи еловый кряж, и как наливается загадочной синью след от бродня, и как на берегу огромной реки колет столетний дед клиньями витую тысячелетнюю листвень. И такие, покажется, у него и со временем, и с этой лиственью крепчайшие счеты, что хоть давно ни того, ни другого нет, а отпечаток этой картины вечно висит в затвердевшем воздухе".
Митя ложился спать, а время шло, и подсыхая, ждали рубанка белые жилистые дерёва, и стихи накипали прозрачными пазухами в душе, и рассказ таинственно подавался во сне, со скрипом слезая с сучков, и все было хорошо, если б не одно более чем капитальное обстоятельство. Обстоятельством этим был отец, составлявший главную беду и боль Митиной жизни.
ГЛАВА II. ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Гуси-Лебеди – Не-по хозяйски —
Почтарь Елизарыч. —
Папа и бабушка. – Крест. -
Отец приглашает Митю.
1.
Весной ездили на остров за гусями. Кропотливо продуманное Хромыхом предприятие напоминало разгадку загадки про волка, козу и капусту. Сначала на дюралевой лодке в три приема перевезли через заберегу на енисейный лед "буран", сани и долблёную лодку-ветку. Погрузили ветку на сани, подцепили к "бурану" и уехали к острову. Там снова переправлялись через заберегу, но ветка брала одного, и на ней уехал Митя, привязав к распорке конец шпагата, клубок которого держал, распуская, Хромых.
Словно сделанная из разрезанного вдоль веретена, остроносая и острохвостая и как скорлупка тонкостенная, ветка необыкновенна ходка и послушна, и так легка на переворот, что стрелять с неё можно только по ходу. Борта её для прочности распёрты рейками, или, как их зовут, порками. Гребут двупёрым деревянным веслом. Заехав носом на лед, Митя положил весло поперек бортов, прихватил вместе с поркой, чтоб при наклоне лодки весло уперлось в твёрдое. Выгрузившись, он отпустил ветку, и она тёмной утицей унеслась к Хромыху.
Остров уже вытаивает песками. Хромых в чёрных очках и грязном белом халате, похожий то ли на мясника, то ли на санитара из затрапезной больницы, расставляет фанерные профиля гусей и напевает:
Не спеши, мой маленький мальчик,
Нам надо очень медленно жить.
Всё готово, Митя сидит в снежном скрадке, перед ним голубовато-зеленый ледяной залив и на его краю серые крашеные профиля – как живые гуси, кажется вот-вот пойдут. Митя задумывается, взгляд блуждает по сторонам, а когда падает на профиля, сами собой дергаются руки с ружьём. Над белым Енисеем плывет расплавленный воздух, жидкое стекло, и если посмотреть в бинокль – волны крупные, одушевленные, необыкновенно деловитые, и кажется, будто вслед за птицами гонит весна на север какие-то бесконечные прозрачные стада. Клонит в сон, и вдруг налетают гуси, и Митя бьет дуплетом и мажет. Гуси шарахаются, взмыв и затрепетав крыльями, и отвалясь, уходят в сторону, Митя ревет медведем: "О-о-о, беда!" и ему кажется, что гусь, по которому стрелял, летит не так и вот-вот упадет. Второй табун налетает на Хромыха. Страшно хочется, чтоб тот промазал, но гусь после выстрела послушно складывает крылья и камнем падает на зернистый снег, взбив картинный фонтан. Лежит, подвернув голову – плотный, литой, восхитительно дикий, рыжелапый, перо серовато-бурое с каймой.
Костер на южном краю песчаного бугра. Раздувается ветер, свистя в голых тальниках, пылает нажаренное лицо, пепельные тальниковые ветви горят почти без пламени. Стволики как пробирки, набранные из стеклянных кубиков – удар ветра наливает в них ярчайшее красное вещество, которое так же легко выливается, чуть стихнет порыв. Вьётся крупный и плоский пепел. Скрипит песок на зубах. На газете сахар в пачке, чай, кусок красной волокнистой тушенки на ломте хлеба. В протоке звонко и протяжно орут лебеди.
– Этим бы только бакаланить! – Хромых открывает топором сгущенку, отвалив кругляшок крышки и облизав кончик лезвия, – а то некоторые сделают две дырки, и тя-янут резину.
Густая сгущенка медленно растворяется в крепком чаю. У Гены хорошее настроение, он рассказывает байки:
– У кержаков: из аэросаней веялка для ягод. Дед и парень. Дед: "Не туда сыпешь, туда надо". Пальцем показал и палец оттяпало, – рассказывает очень смешно, к развязке глаза все больше оживляются и прорывается неудержимый хохоток, – почтаря знашь у нас, Елизарыча? Артист – поискать. Баба у него уехала в отпуск с ребятишками. Ему недели через три это дело надоело – хозяйство, почта, все такое, короче, телеграмму ей отбил: "Гнездилов умер. Срочно приезжай". Уже не помню, как подписался. Я как раз на угоре стоял: она с теплохода с ребятишками подымается. В платке чёрном. Лица нет. К ограде подходит – там Елизарыч лыбится. Надо было её видеть: побелела, позеленела, и… тре-есть ему по рылу! Короче, заслужил. Бывало поддаст и дразнит ее: а ну зажарь-ка мне, зажарь мне… знашь кого – червяка!
– Что-то я спросить хотел, – сказал Митя, морщась.
– У меня бабка говорила: когда не можешь вспомнить – пошевели кочергой в печке.
– Это от отца у меня. Тоже, как забудет что-нибудь или потеряет – не успокоиться, пока не найдет… – Митя пошевелил в костре палкой – вот, шевелю, – не помогает.
– Плохо шевелишь… Это я у тебя давно спросить хотел. У тебя отец, чо правда уехал?
– Правда. В Британию – Митя произнес небрежно: "в Б – а -ританию".
– С концами?
– Ген, спроси, что полегче. Дай Бог, нет. Он же как в командировке.
– Не печатали что ли его?
– Да всё печатали! Не знаю. Маманя считает это Аллы происки, ну, жены этой… А по-моему сам решил.
– Дети-то у него есть еще? – глядя в костер, спросил Гена.
– Сын. Женечка, – Митя помолчал, закатывая палкой в костёр отскочивший уголек, – мать жалко. Она сама, как ребенок. Боится всего, то микробов, то грабителей…
Вода в задрожавшем чайнике вздыбилась белым туманом.
– Сначала ушел, потом уехал, – задумчиво сказал Гена, сняв чайник тальниковым крючком, – улететь осталось.
Потом молчали, потом Хромых долго рассказывал про конную почтовую службу, что была на Енисее ещё испокон веку и дожила до послевоенных времен. Поселки ещё исстари ставились на расстоянии двадцати-тридцати километров друг от друга и назывались "станками". Почту привозили из соседнего станка, принимали, перекладывали в другие сани, запрягали своих лошадей и везли дальше. В старину еще везли в Енисейск со всего Енисея, с самого Севера рыбу, обоз по пути собирал всё новые и новые подводы. Стерлядки тогда было в Енисее столько, что один раз ставили на яме сеть после ледостава, и она полностью была забита рыбой. Вместе с почтой, с рыбой отправляли с первым попавшимся посылки родным в Енисейск, и ни разу не было, чтоб посылка не дошла. Митя представлял обоз, идущий от Карского моря до Енисейска, сани, заваленные седой проколевшей рыбой – осетрами, чирами, нельмами, омулями, стерлядками. Каждый воз со своим богатством… Каменно-звонкие на морозе, в куржаке, как в щётке, кажется – ударь расколются, как драгоценный минерал, брызнут самоцветным мясом – красным, розовым, рыжим. Обозы шли под Новый год, в сильные морозы, и скрип приближающегося обоза был слышен за многие километры.
– Почта в кожаных сумах была, – продолжал Гена, – отец говорил, кожа отличная – на бродни! История есть, ну… как легенда семейная, про прадеда нашего, что ехал с почтой, и волки на него напали, он их шашкой порубил, и дальше едет. И снова волки, он за шашку хвать- а кровь-то не вытер, к ножнам и прихватило. Сожрали… Так, давай добирай тушенку.
Митя доел тушенку и положил банку в костер, а Хромых выудил её, и нагрев, дорастопив остатки жира, ополоснул круговым движением, вылил остатки жира на кусок хлеба и сказал:
– Вот так бы настоящий хозяин сделал.
Оба осоловев, распластались у костра на песке. Митя так и засопел в раскатанных до пахов сапогах, в толстой куртке, с капюшоном на голове. На лицо садился пепел, его обдавало дымом, жарило солнцем и холодило ветром, и оно было как балык. Засыпая, он чувствовал через пятки, как грубо, тяжело, гулко касаются сапоги земли, и от этой каблучной гулкости, казалось что ноги где-то далеко и теряются. Лежал он в одежде, как в коконе, только лицо в иллюминаторе капюшона холодил ветер, и оно было как намазанное спиртом, и казалось в полусне, так он открыт ветрам, пространствам, незримым в ту пору звёздам, что испаряется через своё лицо, что огромным и бесконечным небом его вытягивает из самого себя, как нарыв, заполняя покоем, вечностью, Богом. И вдруг он понял, что не спит, и ощущает себя необыковенно трезво и ясно, и знает что-то самое главное, чего не может пока вспомнить. Спокойно и ровно дыша, он засыпает, а проснувшись, открывает глаза и вспоминает: умереть надо во сне и с лицом открытым небу.
Бывает, когда давно знакомого человека назовут по имени, и оно вдруг покажется нелепым, не отражающим главного. Про Хромыха иногда думалось, что никакой он уже не охотник, что, забота за заботой, он все больше отдаляется от самой охоты, и давно уже бродит какой-то широкой округой жизни, в которой главное – стремление к её безотходности, родовая крестьянская жалось к труду, к усилиям, звучащая как, "добыть-то пол беды, а ты сохрани поди".
Митя хорошо помнил, как ходил с отцом в гости, и хозяйка, провожая их, походя вылила недопитые остатки водки в раковину, и Глазова буквально передернуло, он представил, что это видели помирающие с похмелья мужики. Вспоминая обидное замечание с тушенкой, Митя думал, что отец, наверное, так же сказал бы, и что дело даже не в жалости к труду, а в способности не зависимо от своей сытости и обогретости смотреть на происходящее глазами самого голодного, холодного и бедового.
Митя ни разу не видел отца с записной книжкой или пишущим за столом. Всегда он казался увлечен чем-то, не имеющим к писательству отношения. Да и не походил он ни на какого служителя Муз, скорее напоминал руководителя предприятия или разведчика из кинофильма – с квадратным лицом, высокий, долговязый, плечистый, размашистый в движениях. Носил металлические костюмы, полы его пиджака, рукава и брючины всегда развевались.
Любил перемещенья, и Митя хорошо это понимал. Раз сам вылетал из Москвы с очень высокой температурой, и, едва поднялись, что-то заходило, заструилось внутри, кровь побежала по-другому, до треска распирая голову и будто прокачивая болью, словно жизнь, творящаяся внизу, проносилась в ней в сжатом виде, и душа, перерабатывая расстояния, трудилась с нечеловеческой силой… Один полоумный художник рассказывал Мите, как на лужайку, где он писал этюд, подсела летающая тарелка и прокатила вокруг Луны. Конечно, пришельцы неспроста выбрали художника, как наиболее достойного, и все жаловались: "Нда-а, тяжелое у вас тут на Земле сознанье"… Особым правдоподобьем подкупал воздух в тарелке, ярко-зеленый на скорости. Что-то в этом было, и хотя в полете Митина душа не зеленела, но память цвет и яркость меняла точно, и прошлое озарялось в пронзительном и странном свете.
В Красноярске почти отлегло, но билетов на Север на было, Митя кинулся в портовский медпункт, где ему померили температуру и дали талон на подсадку. Пока брал билет, жар и вовсе спал, и глядя из самолета на высокое и будто выметенное небо, Митя восхищался, как ловко захватил хворь на излете, и как вылечила его дорога.
Быстро и увесисто садился отец в машину, уелозивался норовистыми движениями, будто отпечаток его крепкого тела оставался на месте и нужно было совпасть с ним, как с затвердевшей одеждой. Поворачивал ключ, требовательно вслушиваясь в ответ двигателя, покосившись в зеркало, включал передачу и трогался, быстро и легко сработав газом и сцеплением, и ехал, так же упруго работая педалями, и как лягушкой накачивая машину скоростью. О замене колодок отец говорил как о каком-то смешном и грустном условии игры.