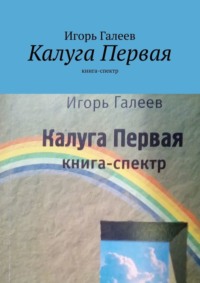
Калуга Первая. Книга-спектр
От чего же становится так нестерпимо скучно? Быть может, оттого, что вы не увидели толстую (или, по запросам, тощую) фигуру того самого очаровательного литературного персонажа, по нелепому и инфантильному прозвищу чёрт.
Или же более веской фигуры не приметили:
дьявола,
а может быть,
беса,
Мефистофеля,
сатану?
И есть ли прекрасные герои за плечами гражданина со знаменитого бульвара? Будут ли они продолжать улыбаться здесь? Пощемят ли ваши души? Наверное, от скудности жизни кое-кто привык развлекать чертовщиной воображение, потому что нет никакой охоты читать или плодить художественные биографии, облаченные в сюжетные тона, с выводами и тонкими моралите для добрых мам и престарелых тетушек. Все одно скучно, если автор и возьмет биографии министра или авантюриста, будет вызывать социальные, философские суждения, смешить и показывать, как нужно жить, а как бы не следовало. И хорошо, если нет претензий на образец произведения искусства – а так, мол, пишется, да и все. А если есть? Это просто кошмар, когда человек хочет создать образец. Иное дело – новый взгляд, развитие да движение. Хотя, как говорил друг человека с бульвара: «Все научились романы писать, тучи серости, хотя бы кто-то, наконец, на фоне посредственности более образованным языком заговорил о главном».
Здесь Веефомит задумался и зачеркнул цитату, она ему показалась двусмысленной и нескромной. Жаль, что Веефомит тогда еще не претендовал на новый взгляд, цитата-то вполне умная. Он встал, походил в своем будущем доме и, поленившись развивать мысль о движении, быстро накалякал:
«Так есть ли Выход? Его требует большая часть редакторов мира.
Наверное его нет, хотя пробовать применить писание для развития, для попытки понять себя, всегда не грех».
– Я зарапортовался, – сказал Веефомит, – эта Москвичка не дает мне сегодня покоя. Вот я поднимаюсь к ней в первый раз, вот она открывает дверь, смотрю не отрываясь, говорю: «я по объявлению», а она совсем не такая, как я представлял. Как она меня теперь мучает! Я не буду, не буду писать о ней! Ничего не было, я выдумал, я вечно холост, вот и всё!
Веефомит скомкал последний лист и быстро, скрежеща от напряжения зубами, написал:
«Скажем так: бес и черти и вся прочая нечисть в каждом и в общей массе тоже, не исключая важнейшие механизмы и электрические чайники. Природа водит всех на грани патологии, ей любопытно что сотворит любой тип, потому что – кто его знает, может быть, она выбирает из всех тот, который будет наиболее соответствовать ее планам и приобретать по ее велению массовость. Ну а пока, мы все не без изюминки и потому, заглядывая в положительных и отрицательных, займемся тяжким поиском Меры. Бенедиктыч нам поможет! Если, конечно не сведет меня с ума. Сам он, как видно, не собирается проповедать свои взгляды.
И я бы не стал, да что-то меня несет, и, переносясь в будущее, я предполагаю, что это пойдет мне на пользу».
Веефомит походил, походил и подумал:
«Как им доказать, что человек и без всякой биографии может предстать в самом невероятном и потрясающем образе, что человек может вобрать в себя весь мир. А сотворит такое, что и рука не поднимется описать, упрощать приходится, несмотря на всю фактич-ность. Упростишь, и то не поверят: где это вы такого монстра откопали – демонизм-де в нем или – фантастика, больной вымысел – рукой машут. Будто еще где-то можно брать, как не в жизни, которая преломляется в том или ином сознании. Два источника – жизнь да сознание, нет третьего, но упрощать все равно придется. Это Бенедиктычу незачем читателя притягивать, это ему иная роль, а мне его понять предстоит, мне к нему взгляды притянуть суждено. Летописец я. Потому и упрощать придется, чтобы хоть кое-чему поверили и не всё на больное сознание списали».
Неправильную позицию занял Веефомит, решив завлечь читателя, сел за стол, который еще ни одна фабрика не сделала, взял ручку, которой и в помине нет, вздохнул о Москвичке, к которой так и не ходил, и начал роман так:
События ужасной давности
В древнем городе Москве случилось несчастье. Леонид Строев, чудесный литератор и гордый человек, внезапно захандрил. Его домочадцы и друзья совсем не ожидали от него такого. Ни с того ни с сего на Леонида Павловича напала тоска. Летом, в 1999 году это случилось. Пришел он с ежедневного гуляния по бульвару и будто сам не свой. И сначала Москва толком не знала, о чем именно тоска у Леонида Павловича. Захандрил да захандрил, шептались.
Близкий друг его, почти биограф, Федор Сердобуев, приписывал беду магическому влиянию цифр. Три девятки подряд – это не шутка. Когда еще такое будет, мол, еще единица – и каким-то непостижимым образом станет две тысячи.
«Зачем? – волновался Сердобуев, – почему? Тут какая-то загадка! Ведь можно сказать, третье тысячелетие, и, значит, мы во втором все скопом жили, как в каком-нибудь тысячелетии до нашей эры. А куда же века денутся? На этапы все наши чаянья поделят. Целым поколениям по одной формуле уделят. Ужасно! Ведь как начнут говорить: «третье тысячелетье», «день рождения Христово», «юбилейная дата», «двадцать первый век», «две тысячи первый год», «Христос воскрес»…
Тут и сам Федор Сердобуев начинал путаться и нервничать, так как являлся впечатлительной натурой, склонной к писанию длинных поэм о водах и человеке в городе, верящий в интуицию и предчувствие.
И не он один. В 1999 году все твердо уверовали в это «невыразимое» и «многообещающее». Тогда вся поэзия на одной интуиции укрепилась, и, действительно, родилось, как ни странно, два всемирно известных поэта. Взяли они от нового течения все, что смогли, и поднялись до всеобъемлющих величин. И как-то удачно оба показали по выходу. Один – в «интуитивное», второй – в «невырази-мое».
Так и убедил один:
«Невыразимость – гений впопыхах».
А второй еще точнее закончил свое программное стихотворение:
«Идя во мраке, чувством окрылен,
Ты верь, что там развеется твой сон,
И заживешь, мечтой вознагражден».
И все умело пользовались этими выходами, надеялись и верили, что спят. Вот только Леониду Павловичу поэтические регламентации не помогли, сколько ни зачитывал стихи перед ним Сердобуев. Строева поэзия давно не интересует. Он убежден, что она – дело юности, всегда временное явление, и не скажешь в ней многого, не охватишь со всех сторон предмет, как в прозе.
«И ладно, – соглашался теперь Сердобуев, – а ну ее, поэзию, конечно же проза. Из-под вашего пера такие жемчужины выходят, наиреальнейшие мысли и образы, прямо мурашки по телу. А мурашки – это, всем известно, и есть признак духовности. А, Леонид Павлович? Ну поработайте, берите ручку, вот листочки, посмотрите, какие они невинные, свеженькие, а? Работа вас мигом освежит».
Но Леонид Павлович лениво морщился, отворачивался, в глазах его мерцала мучительная тоска. Потому и говорит вся Москва, что Строев писать бросил. И пригороды вторят. В некоторых – даже волнения случились. «Просим и ждем Леонида Строева!» – транспаранты пронесли. Деревня Перделкино только отмалчивается, выжидает. А так, уже и периферия не знает, что и думать.
Всем не по себе. Периодические издания в шоке, ведущие редакторы курьеров засылают, звонят. Корреспонденты суетятся, в подъезде ночуют. Но Светлана Петровна неподкупна, на звонки – «болен», курьерам – «через месяц» говорит, а с корреспондентами во-обще не разговаривает. Никто не знает, как один сумел проникнуть в кабинет Строева, скорее всего, с помощью бытового гипноза проскочил.
– Вы это навсегда и бесповоротно? – спросил сходу.
Леонид Павлович вздрогнул и обернулся. Он дохлебывал борщ, и тотчас слеза выступила у него из глаза, потому что ему втройне было жаль себя, когда его обижали во время еды.
– Я не хочу! – махнул он вялой рукой и откусил хлебца.
– Уйду, ухожу, не смею! – сочувственно залепетал корре-спондент, – вы что, больны?
Строев проглотил ложку борща и низко склонился над тарелкой. У него еще сильнее защипало в носу и усилился зуд под бровями. Он был немощен и одинок в своем необычном положении и от этого еще беспомощнее в своих глазах, сочувствие к себе всегда вызывало в нем отвращение и затем ярость. Этого наивно не учитывал корреспондент. Нервы у Леонида Павловича совсем за последнее время сдали, еще мгновение, и он бы швырнул чашку с борщом на пол, затопал ногами и стал бы обыкновенным человеком, а не писателем с мировой известностью. Но в следующее мгновение (непредсказуемый человек) он нашел в себе силы сдержаться, резко повернулся к востренькому репортеру, окинул его холодным взгля-дом и сказал:
– Ну?!
От этого взгляда у бедного корреспондента в голове не осталось мыслей, он тщетно силился вспомнить вопросы. И Леонид Павлович сменил гнев на милость. Он не любил людей, долго держащих верх, и в себе подавлял этот инстинкт. И менялся Леонид Павлович быстро.
– Ладно, задавайте ваши вопросы, только коротко. Я обедаю.
– Ага! – корреспондент включил магнитофончик, – вы навсегда оставили профессию литератора?
– Кто вам сказал?
Корреспондент замялся и сделал шаг ближе.
– Все, Москва… Я сам слышал, – и сообразил, – если это не так, то я разом развею слухи! Леонид Павлович, читатель в растерянности! Он обеспокоен за судьбу народного таланта, который дарил ему минуты и часы наслаждения…
– Чушь! – вскочил Строев, – никому я ничего не дарил, я себя…
Но тут он опомнился, вяло сел. Взгляд его вновь наполнился тоской и раздражением.
– Вот что, молодой человек. Я вынашиваю планы. И никого не намерен в них пускать, слышите! Я не хочу обманывать ожиданий. Если и напишу, то не скоро. Я не молод, как видите, всякое может случиться.
– Что вы, вам еще жить да жить, вы еще пораду…
– И потому – прошу довести, если это необходимо, мои слова про планы до читателя.
– А в общем, – волновался корреспондент, – это будет о смысле жизни, с человеческими идеа?..
– Это еще не определилось, – отрезал Строев.
– Ясно. А конфликты?
– Я же сказал.
– Ясно. Может быть, где будет проходить действие? Вы о месте действия всегда давали интервью.
– Всё, – поднялся Леонид Павлович.
– Понятно, тогда последний вопросик.
И корреспондент взглянул своим отработанным умоляющим взглядом.
– Задавайте.
– Это будет в вашем излюбленном методе?
Строев вздрогнул, будто его застали за постыдном делом. И уже не скрывая раздражения и неприязни к востренькому лицу, сказал:
– Идите-ка, молодой проныра, к черту! Он вас давно ждет. Если бы вы понимали, где сейчас моя голова!
– О, ваши великолепные парадоксальные обороты! Вы по-прежнему будете вставлять их в диалоги?
Строев еще раз вздрогнул. Но теперь уже не от вопроса, а от того, как, ему почудилось, он был задан: «Неужели не без ехидства и издевки, настолько ли умен этот вездесущий?» На востреньком лице корреспондента ничего, кроме мольбы, не отражалось, и в глазах застыло прошение. «Сам вокруг себя чертей рассаживаю», – отмахнулся от глупых подозрений Леонид Павлович.
– Поживем – увидим, – философски ответил он на вопрос.
– Верно! – задвигался корреспондент, отступая на шаг, – а этим летом вы куда-нибудь собираетесь? Будете в Москве или уедете поближе к природе, чтобы там в тиши…
«А он не лишен патетики, – заметил Леонид Павлович блеск в глазах у разошедшегося корреспондента, – или дурак, или умен тайно. Но все равно бедняга».
– А может быть, вы съездите на Север, чтобы ну, там, набраться…
Долго бы не удалось Леониду Павловичу освободиться от диких вопросов, если бы не спасительная Светлана Петровна. Она за Леонида Павловича жизнь могла положить. Услышав голоса в кабинете, жена пришла в состояние опасное. Леонид Павлович все усилия приложил, чтобы пойманный корреспондент выбрался из квартиры в полном здравии.
На лестничной площадке его обступили коллеги и принялись уговаривать и напирать, выуживать и обещать, но счастливчик отделался умнее, чем кто-нибудь из них на его месте: он сказал, что «старик» непрошибаем, «сила», «созерцает мир через окно», и что луч-ше подождать, когда он войдет в норму. Ему, конечно, не поверили и с завистью смотрели в спину. Она-то им точно подсказывала, что в завтрашнем номере газеты «П», за подписью К.М., появится шикарный репортаж, где всем обеспокоенным и растерянным читателям будет разъяснено то, что они и хотят услышать, но совсем, конечно, не то, о чем ни один житель Москвы и ее пригородов, да и всех дальних селений не знает.
* * *
Об этом догадывался только один человек на свете. Можно сказать, что он наверняка знал, почему Строев «бросил перо», возможно, знал лучше, чем сам Леонид Павлович. И не потому, что человек этот был ясновидящим или там чернокнижником. Не поэтому.
Человек этот попросту знал Леонида Павловича еще с тех пор, когда он не был таким известным; он помнил о его слабостях, тонкостях и потенциях, он плыл с ним на белом теплоходе по ночной реке в какой-то давно прожитой жизни. Он мог бы сам написать, кто прыгнул, а кто остался, он вспомнил бы, почему прыгнул, но человек этот давно не жил по законам реальности и поэтому ничего не написал, считая, что всякое достоверное изложение – ничего не стоит, кроме стоимости газетной информации о текущих мировых событиях. Он мог бы лишь устно сказать, что один хотел доказать другому, что тоже может стать ему равным, осуществиться, но, как оказалось, порыв есть порыв, а осуществление – постоянное движение. Но человек этот не хотел обсуждать дела давно минувших дней, он жил теперь в иных мирах, об ином болела душа его.
Жил он, как все видели, холостяком, инженерил, изобретал всякие штуки, иногда даже получал за изобретательство деньги и не прочь был почудачить. Зовут этого самоуглубленного человека Кузьмой Бенедиктычем. Он теперь совсем уже не молод, и никто бы не сказал, что был он когда-то женат. Я бы первый бросил куда-нибудь камень за такие подозрения. И каково же было мое изумление, когда он однажды сам поведал мне о женитьбе на девице странной и таинственной. Это совершенно особая история, таких еще не было под солнцем, и, проявив уважение к личности Бенедиктыча, я должен изменить своим принципам и выписать ее подробно. Тем более, что он пока опять засел за свои, одному ему понятные чертежи, и потому образовалась явная брешь в сюжете и водворилась затишье в политической борьбе.
Как мне рассказывал Бенедиктыч, «в лужу» он сел (то есть женился) давно, год не помнит, а помнит, что был тогда молод и горяч, претендовал на грандиозную судьбу, на известность и прочую чепуху. Но претендовал тайно, так скрытно, что и сам об этих притязаниях не знал. Те причуды его характера, которыми он сейчас блещет, составляли в то время главную достопримечательность его личности. Он мог спать, где попало, есть, что попало, сутками не смыкать глаз, то вдруг педантично заботиться о внешнем виде, а то доводил носки до железобетонного состояния, и можно подозревать, что это он прыгнул с белого теплохода, хотя и Леонид Павлович прыгнуть тоже мог. Тем более, что он тогда Кузьме все чего-то доказывал. Они оба тогда писали тенденциозные рассказики и по традиции русских юношей замахивались на устои. И, естественно, обожглись, после чего Кузьма с особым упоением занялся со-временной музыкой, самовнушением и самим собой. Веры, как известно, во все времена маловато, а в те – особенно не хватало. И Кузьма пошел к себе, а не в магазины, где, к тому же, всегда были очереди. Равнодушный ко всяческим мирским соблазнам, он, однако, мог подолгу обсуждать и социальные тонкости, и новые прически, причины роста и понижения производительности труда, и разбирался даже в таком понятии, как рентабельность. Строев заслушивался, когда Кузьма фантазировал о будущем комфорте, о чудесах электроники и грядущего сервиса. Но на деле он оставался безразличным к любым переменам и сервису. Что-то начинало грызть Кузьму. И изменись мир – он все равно остался бы устремленным к чему-то иному, отстраненному от общих страстей, обсудил бы новшества и сказал бы: «мо тань го ши» – китайскую фразу, запомнившуюся из банальной брошюрки, а, сказав, вновь бы вернулся к себе, чтобы проверить: подействовали ли эти новшества на его неведомый внутренний мир. Кузьма вырабатывал ценности. Из сотен тонн породы – крупицы истины и смысла. Этот мучительный процесс бросал его во всевозможные крайности, душа жаждала меры, отвержение и принятие выкладывали ступени чего-то великого и главного, от чего можно будет оттолкнуться и полететь.
Но Кузя жил. Он общался, он сам не знал, что в нем творилось, не увидел процесс, и, будучи от природы чувственным и любопытным, попался на крючок.
Поразительно изменчивы женщины! Это поймешь, если проследить, какие они были два века назад, какими становятся ныне. Но их главное назначение – чего-то требовать и требовать от мужчин. И мало кто постигает – чего именно они требуют. Лишь Кузьма Бенедиктович знает – почему. А тогда даже и не догадывался.
Он тогда и предположить не мог, сколько этих чудесных и коварных существ бродит по планете. Вот все мужчины в чем-то одинаковы, похожи один на другого. По крайней мере, нет такого разнообразия, как у противоположного пола. И такого коварства нет, такой выдумки и смекалки, когда дело доходит до завоевания. И что интересно: на улицах не пристают, как мужчины, в лоб не действуют, а все равно сети у них прозрачнее и прочнее. И у каждой своя методика. «Сколько женатых, – говорит с усмешкой Кузьма Бенедиктович, – столько и пойманных на самодельный крючок». И после таких слов улыбка с его лица сползает, глаза туманятся, губы кривятся, словно острый крючок действительно вонзился в нежную мякоть.
Его уже тогда не так-то просто было провести на мякине. От рождения он недоверчив и осмотрителен. Он был не прочь поболтать с женским полом хоть до утра, рад был произвести впечатление, но когда ситуация подталкивала к более серьезным процедурам, терялся как-то, конфузился, так как по рассказам парней знал, что дальше необходимо применять волю, продемонстрировать стойкость и еще что-то, что-то там почувствовать и чем-то противоестественным заниматься, в необходимости чего он очень сомневался, считая, что и без этого общение может быть полным и гармоничным. К тому же, из рассказов тех же парней, он знал, что все эти процедуры могли кончиться нежелательными и уродливыми последствиями. А о семье у Кузьмы тогда и полмысли не было. Правда, поддавшись общему мнению и мужскому самолюбию, он, раза два, с помощью допинга, пытался освоить хотя бы азы, как учили, чтобы не чувствовать себя белой вороной, но у него не выходило, а выходили преказусные штуки, от которых он потел и краснел, чем вызывал у своих жертв то гнев, то смех, то жалость, но ни то ни другое не служило ему вспоможением, лишь усиливало извечную ностальгию вырваться из круга «предрассудков» к истинным поискам назначения и цели.
Кому-то такое поведение может показаться подозрительным. Но, забегая вперед, могу сказать, что Кузьма был вполне нормален и даже слишком нормален, попросту, в те давние времена сексуальные дела человечества пришли в тупик и явное запустение. Я сам тогда жил и порой вспоминаю многих девиц с содроганием.
Ту же, что поймала Кузьму на крючок, винить особо не в чем. Она – женщина, и в ней закон притяжения, который действует порой совершенно непознанно. И не будь Бенедиктыча, люди еще долго бы не узнали о том, что откуда берется.
Случилось так, что «чудак» Бенедиктыч увлекся поглотившим тысячи умов течением, занятым осмыслением и практическим применением таинств Востока. Тогда же Лёнька Строев собирался ехать к «лучезарной Ксении» в Москву, вчерне набросал свою повесть «Прыжок» и заслужил у окружения признание и прогнозы на успех. Лёньку окружали цветаевские девушки, они любили сидеть в его комнате при свечах, читать стихи, курить и грызть печенье. Они пописывали и были очень остры на язык. Конечно, и они чего-то добивались и на что-то надеялись, но были не такими уж серьезными фигурами, как те, у кого право на лидерство на лице написано. А Кузьма тогда считал умы того и другого пола совершенно равными в способности самостоятельно объять мир. Теперь он говорит, что это мнение и привело его к трагическому казусу, так глубоко изменившему его внешний и внутренний облик.
Тот злопамятный вечер состоял из трех подружек, комнаты в квартире Строева, двух диванов, шкафа, стола, фиолетовой картины, на которой изображался железный робот, душащий двуглавого дракона, шума машин за окном, чая с хлебом и маслом, стихов Цветаевой, сигарет и запахов ужина, просачивающихся сквозь дверные щели.
Лидер среди подружек, по фамилии Свинич, когда всё обговорили и Строев явно затосковал по маминому ужину, неожиданно заявила, что открыла необыкновенного человека и стала ему другом, что лучше людей нет и не будет. Кузьма зевнул. Он мало доверял Свинич, она каждый месяц кого-нибудь откапывала и закапывала, но Строев насторожился и погрозил пальцем, сказав, что быстро некоторые изменяют кумирам. Он умел высмеять себя и своих излишне ярых почитателей публично. Свинич возбудилась. Она всегда воз-буждалась, когда на ней сходилось внимание – положительное или отрицательное. Тем более интерес к ней со стороны Леонида и Кузьмы поубавился, потому что Свинич хоть и была молода, но уж слишком доступна и обычна, любые внушения и идеи за ненадобностью смывались с нее, как с гуся вода, обнажая неистребимое желание быть первой и обязательно покорить, ну хотя бы своими вполне женскими ногами. Когда ей не удавалось, она становилась опасна мстительностью, она превращалась в препротивнейшее существо на свете. Но зато она писала стихи и могла развлекать компанию болтовней и последними слухами. Подружки благоговейно внимали ей и верили каждому слову. Она их находила где-то время от времени – каких-то сонных, заклеванных ее идеями о женском образе жизни.
Кузя собрался выйти в коридор, когда проскочили заветные слова: «агни йога», «веды» и еще что-то до боли родное. Он закурил сигарету и впился в Свинич, которая светилась равно пропорционально зрительскому вниманию. У слушающих пересохло в горлах, когда Свинич поведала, что у этого «Нового человека» настолько мощное самовнушение, что он за каких-то несколько недель приобрел азиатские черты лица. У Кузьмы нервно задергалось веко, когда Свинич прошептала:
– Он знает, когда я приду, если я об этом не предупреждаю. И оставляет записку, если знает, что приду, а сам уходит.
Строев хрипло спросил:
– А где он живет?
Свинич словно проснулась:
– Кто?
– Ну этот, твой парень?
– Какой?
Строев обозлился. Она итак в последнее время пугала его своей психикой, а теперь вот дурака делает; он подумал, что все это из-за того раза, когда она готова была, а он…
– О ком ты говорила? Ты что это, Свинич?!
Кузьма поморщился, сейчас начнется грызня. Свою фамилию бедняжка ненавидела, и ее можно было понять. Но сейчас она нисколько не обиделась, наоборот – расхохоталась.
– Да это же она, дурачки! Женщина!
И тут все рассмеялись. А вдобавок оттого, что «женщина» в ее устах прозвучало очень уж двусмысленно и уверенно.
– Ну и где она работает? – вытирая ладонью потный лоб, спросил Ленька.
Свинич объяснила, где Татьяна проживает и работает. И не желая терять внимание, предложила:
– Хотите, я ее могу сейчас сюда вызвать?
– Валяй, – разрешил Строев.
Свинич умчалась. Пока она звонила, каждый обдумывал, как предстать перед новым человеком.
– Чего доброго, она еще и мысли читает, – пошутил Строев и зародился спор: действительно ли есть такие, что читают мысли или это все трюки. Но вернулась Свинич.
– Сейчас будет. Я ей про тебя еще раньше рассказывала, – обрадовала она вмиг покрасневшего Строева, – и про тебя тоже.
– А чё про меня? – смутился Кузя.
– Ты же тоже интересуешься Востоком, – пояснил за Свинич Лёнька.
Разговор как-то не вязался. И когда пришла Татьяна, напряжение измучило всех до неприязни друг к другу. Она вошла, и сразу всем стало видно, что этот человек несет в себе нечто. У нее были и осанка, и достоинство. У нее умное выражение лица. И глаза, в которых тайна. Она была среднего роста, можно сказать, крупная девица с действительно темноватым, в чем-то раскосым лицом, огромными карими глазами, короткой прической и сдержанным молчаливым ртом. Фигура и движения у нее несколько угловаты, поступь твердая, а кисти рук и пальцы довольно изящные, как говорят, не лишены вкуса.
При Новом человеке Строев преобразился. Он всегда был не прочь произвести первое впечатление. Энергичен, словоохотлив и остёр. Кузьма поначалу едва поспевал за ним. И ему было желанно привлечь внимание.
Татьяна, в основном, молчала. Она, по-видимому, была неразговорчива. Девушки боялись показаться глупыми, и только Свинич, на правах посвященной, безудержно хохотала и больно подшучивала над горячностью разошедшихся «мальчиков».

