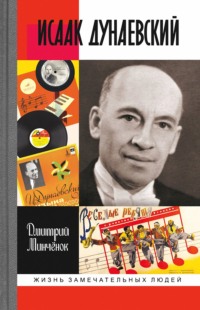
Исаак Дунаевский
«Ни одной минуты она не оставалась одна. Все наше сообщество встало на борьбу со смертью. Через два месяца Лиза умерла».
Забавно, если бы у Шейна получилось.
«Все товарищи пришли на похороны, утешали и поддерживали родственников. Это поведение увеличило популярность товарищества и прославило имя Лейзера Шейна, которого стали почитать как одного из “скрытых праведников” поколения».
Тайный праведник – ламедвовник, число которых не превышает тридцати восьми – титул удивительный. Если именно такой человек воспитывал детей Иосифа, то неудивительны духовные качества его воспитанников.
«Влияние Шейна было очень заметным. Он сочетал в себе нравственную силу и духовный аристократизм, который предохранял его от грязи, ржавчины и любой нечистоплотности, от воздуха, которым он дышал. В его присутствии люди становились друг другу товарищами и само их поведение, манера речи и походка менялись».
Характеристика в высшей степени замечательная.
«И вот была объявлена забастовка портных. Условия их работы были тяжелыми: рабочее время было практически неограниченно, а плата не определена. Лейзер организовал забастовку и руководил ею. Ему помогал Залман Рахлин. Несколько “домохозяев” решили вмешаться (среди них были владельцы табачной фабрики – в том числе и Дунаевские). Они уговаривали портных, чтобы те не вступали в переговоры с рабочими. Они также угрожали тем, кто был готов заключить договор с рабочими, что накажут их в свое время. Волю “хозяев” выполнял владелец одной мастерской – не столько подлец, сколько дурак. Рабочие рассердились и побили стекла в его доме. Стали говорить, что это было сделано с согласия Лейзера и он даже в этом участвовал. Аргументы были такие: нельзя посылать других выполнять дело, которое может вызвать неприятие или даже осуждение. В подобных случаях ты должен сам принять участие. Лидерство очень обязывает. Если ты принимаешь на себя миссию, ты уже не можешь от этого уклониться. Забастовка закончилась заключением соглашения, и “хозяева” были очень сердиты».
Вы всё поняли?
Лейзер был одним из первым организаторов отрядов еврейской самообороны. Самообороны, родившейся как ответ на погромы. Самообороны, которая позже переросла в желание вернуться на свою родную землю, чтобы не искать справедливости на чужой земле. Он уехал из России в 1920 году в Палестину и стал одним из тех, кто создавал Еврейское государство. А в детстве Исаака он ходил бить окна евреям-фабрикантам, которые отказывались идти на уступки своим рабочим.
Если учитель Исаака был таким пылким революционером, то неудивительны многие другие вещи, которые Исаак воспринял, как ребенок молоко: революционные потрясения, перемену основ. Он уже жил среди этого.
Если ему было пять, Борису было соответственно девять; когда Шейн, человек одержимый, стал приходить к ним в дом, то многое во взрослом Исааке уже не вызывает удивления, например, его твердая принципиальность и неистовость. Я видел такую в своем тесте Давиде Дубинском, когда он кого-либо защищал.
Об этом вообще нигде не сказано, но, по всей видимости, какая-то бессознательная вера в идеалы благого мироустройства в душе Исаака была подготовлена именно этим учителем.
Но вопросы оставались.
Не Бецалель Симонович, а Розалия Исааковна была той, через кого еврейство, несмотря на все старания отца, продолжало действовать на Исаака. Это воплощалось и в малом: она волновалась, когда ее дети гостили у мальчишек, как бы их там не накормили трефным, и в крупном: проживая в Москве на Гоголевском бульваре, она регулярно ходила в синагогу и жертвовала значительные суммы от имени прославленного сына, лишь бы он не потерял место, которое уготовано для него в раю от самого рождения.
* * *Бецалель Симонович (потрясающе, если в его доме жил один из тех, кто организовывал первые отряды еврейской самообороны) был своеобразным философом, считавшим, что жизнь – это опора для несчастий, как насест для курицы. Тем не менее лучше прожить ее достойно, не рыдая и не квохча.
Насколько ему удалось доказать правильность своих слов, я не знаю.
Жизнь постоянно подкидывала сюрпризы. Царь, погромы, революция, большевики, немцы, Петлюра, гетман Скоропадский… сколько причин бежать от одних в объятия других. Только не по любви. Он умер в Москве в 1934 году.
Для маленькой Лохвицы его должность кассира в банке Общества взаимного кредита была весьма уважаемой, прежде всего потому, что требовала абсолютной честности. И он ее демонстрировал. Но в меру.
В одной из анкет, писанных в начале 1930-х, Бецалель Симонович (чаще называемый менее сложным для русского ухо именем Цали Симонович, созвучия и модуляции перехода, надеюсь, вы сами услышите) написал, что был мещанином. Имел небольшое дело. Производил фруктовую воду, которая считалась самой вкусной в Лохвице. На самом деле, то был ликеро-водочный завод, о котором младшему Максиму Дунаевскому рассказывал большевистский секретарь райкома.
Я помню, с каким восторгом рассказывал об этом Евгений Исаакович. Трогательность его воспоминаний породила у меня во рту вкус «Вод Лагидзе», к которым память отнесла изобретение Иосифа Бецалевича.
Я пробовал «Воды Лагидзе» в начале 1990-х, сразу после ельцинской революции, пока ею торговали у станции метро «Пролетарская» вместе с вкуснейшими хачапури.
Факт, позже тщательно скрываемый Исааком Дунаевским (не насчет Пролетарской, а насчет увлечения его отца частным делом по производству ликера). Говорить при Сталине о том, что ты был частным предпринимателем, неважно, мелким или крупным, равносильно тому, чтобы надевать себе на шею петлю и ждать, когда любимый вождь пригласит тебя на танец, выпихнув из-под ног табуретку.
Но воды – это так, маленький штрих к большой биографии. Деталь невысказанной жажды к музыке. Главный вопрос, который жег, который мучал меня: в кого мой Ицхак такой музыкальный? В кого, кроме влияющих звезд, фантомов и диббуков[13]? В первой биографии, чтобы не мучить лукавое воображение слушателей, я сразу высказал догадку, что во всем виновата мать, Розалия дочь Исаака из рода Бронштейна. Ох уж эти мне художники!.. – воскликнула бы она.
В еврейской семье девушке было прилично играть, и я полагал, что так и было. Вчитываясь в воспоминания брата Бориса, в моей душе рождался образ женщины, играющей по вечерам на музыкальных инструментах. Возможно, в ней оставалось живо воспоминание о девичьем увлечении скрипкой, когда она брала ее в руки и видела себя играющей на лучших сценах мира. Подобные образы кружили мне голову лучше прозы Исаака Башевис-Зингера.
Но время все время расставляет что-то по местам.
Прошло больше десяти лет после выхода моей первой книги… И вдруг на съемках передачи, которую вел Андрей Малахов, я познакомился с очаровательной женщиной: Ларисой Борисовной Чечевицыной, вдовой Семена Осиповича Дунаевского – четвертого сына Бецалеля-Иосифа Дунаевского. Я с интересом смотрел на нее, подкараулил в гримерке и предложил встретиться. У нее дома. Кажется, она не очень поняла, какое отношение к Дунаевскому я имею, или я не очень четко представился ей; про первую книгу она не знала или мне так показалось, но ее тронул мой неподдельный интерес к ее персоне.
Началась продолжительная игра в «не могу», «больна», «устала» или «устал» с обеих сторон, пока однажды я не стукнул кулаком по столу во время исполнения увертюры Россини и, схватив трубку для табака, после первой же затяжки договорился, держа в руках трубку телефонную, о встрече.
Летней порой я спешил к той, кто помнила моего героя молодым. Я спешил, и это сыграло со мной злую шутку. Все время меня преследовало какое-то шуршание. Я не мог понять, откуда оно взялось. Оглядывался, смотрел на небо, ни ворон, ни воробьев, ни слежки – не было. Оставалось предположить, что шуршит трущееся об меня время.
Осколки удивленных взглядов отлетали от меня. Поверьте, это очень много для автора, родившегося через 32 года после смерти своего героя, видеть ту, чьи ладони хранили тепло его рук.
Я запутался в дебрях сада Баумана, который мне надо было преодолеть, в лабиринте взглядов, ожидающих свидания влюбленных, в месиве арок подворотен, которые уводили меня все дальше от искомого дома. Пока, наконец, не поставил точку на месте огромной железной двери, которая остановила бег меня и времени.
Я нажал на кнопку звонка. И не услышал ни топота ног, спешащих ко мне людей, ни рева сирен, желающих меня отогнать от предмета вожделения. Я не услышал вообще ничего, что могло бы отослать меня к началу какой-либо литературной истории, нет, ибо на самом деле все имеет истоки там, где мы не ждем, – в фантазии. Был только щелчок и в проеме двери появилось очень красивое лицо на манер экспоната из галереи Уффици. Портретом назвать его было нельзя, ибо вихрь жизни постоянно менял краски на лице хозяйки дома, которая радушно улыбнулась, уступая мне дорогу.
Я очутился в прихожей, которая показалась мне сначала не соразмерной той, к кому пришел, но затем очень быстро стала очень обычной кооперативной квартирой эпохи развитого социализма. Она была полна всем, только не квадратными метрами.
Лариса Борисовна разыграла в тот вечер какую-то сложную шахматную партию с тарелочками, тарелками, бокальчиками, бокалами и бокалищами, которые удивительным образом уместились на обеденном столике.
– Здесь «бородинский», здесь «белый», – указала Лариса Борисовна. – Какой?
– Только «бородинский».
– Мужчинам корочку не положено. (Мой удивленный взгляд.) Можете вилкой, можете руками.
(Есть я не собирался, но голод взял свое.)
– Учтите, все может удваиваться. Все, что длинное, используем как бокалы. Не стаканы, но нечто вертикальное (чем-то смущена). Попробуйте хренка. Я всегда в магазинный хрен кладу ложечку сахара и размешиваю. Получается как домашний. Правда. Ну, давайте. Только я не пью. Чтобы не в первый и не в последний раз. Есть еще и водка. Вы есть не забывайте. (Звонок по телефону, трубка сразу не отвечает.) Вроде я не пьяна. (Наконец на другом конце ответили.) Я сейчас не одна. Так на чем мы остановились?
С этого и начался наш разговор. Честно говоря, про голод я не забыл.
– Вы не думайте, я это не сама готовила. Все купленное, – упредила Лариса Борисовна мою похвалу.
Я слушал ее рассказ. Скользил взглядом по комнате. Ощущение было не из приятных. Минутные стрелки замерли, точно хищники, поджидая малейшего прокола с моей стороны. Я хотел сразу перейти к делу, но пришлось слушать всякие глупости… К нашему разговору я буду возвращаться неоднократно. Но тогда меня волновало другое. То, ради чего я и пришел.
– Лариса Борисовна! Кто из родителей Исаака играл и пел? Мама или папа?!
Лариса Борисовна взяла деликатную паузу.
– Розалия Исааковна? – Она рассмеялась, благодарно наблюдая, как я съедаю восьмую кильку, кажется, последнюю.
– Кто-то там говорил, что она обладала музыкальным слухом.
Этим «кем-то» был я, в своей первой книге. Самое главное, я сам не помнил откуда взял эту информацию.
Ярко-красная улыбка прорезала белесый туман в комнате.
– Слушайте. – Она посмотрела куда-то вдаль, вероятно туда, где были те, кто мог сказать, что все ею сказанное будет истиной. – Розалия никогда не пела и не играла. Она готовила, да. Но все остальное… Можно называть это мычанием, даже если она думала, что поет.
Это было жестко, но в тот вечер Лариса Борисовна окончательно открыла мне глаза на то – кем была мать Исаака – не певицей. Но откуда же я взял про клавикорды, про ее музыкальность? Интуитивное озарение? Я был склонен думать именно так. Было более ужасное подозрение – все, что я написал про завещанные клавикорды, про дочь и отца, могло оказаться выдумкой. Два возможных источника музыкальной одаренности детей: у всех пятерых мальчиков (кроме дочери Зинаиды) либо отец, либо мать, мать – надо было отбросить. Отца – выбросили сразу.
Из родных, кроме дяди, не остался никто.
Я был посрамлен. Спустя десяток лет Лариса Борисовна все расставила по своим места, но… Я не собирался спорить с ее детской памятью, дети знают все абсолютно точно, только не всегда понимают то, что знают.
Я снова стал смотреть на фотографии отца и матери Исаака. Суровый, прямолинейный отец, властный, богатый, без забвения любящий мать своих детей, и… – не поющая мать…
Откуда тогда в доме взялись клавикорды в воспоминаниях брата Бориса? И где вообще у меня эти мемуары Бориса? Я полез по книжным полкам. Вот же они, были… на полках стояли детективы Агаты Кристи, и никаких книг про Дунаевского. Загадка. Я начал вспоминать, кому что отдавал.
Мемуаров Бориса нигде не было. Откуда я их вообще взял? Вспомнил про толстенный голубой том 1970 года издания. Да, мемуары. Но где эта книга? Снова полез рыться. И не нашел. Бесконечные уборки сделали свое дело! Я потерял книги. Тогда вообще откуда клавикорды?
Разозленный, я написал Римме Дунаевской, вдове Евгения Исааковича Дунаевского, и она прислала мне ксерокс шести страниц из голубого тома воспоминаний про Исаака. Я открыл и охнул. Они начинались воспоминаниями брата Бориса.
Очень скупыми, очень общими… не за что уцепиться. Как во всем, что проходило железную терку советской цензуры. Там была только одна выпадающая из общего ряда банальностей фраза «клавикорды». Именно их Борис считал источником музыкальности своего брата, выводя происхождение дара от экзотического музыкального вида из щедрости своего скупого отца, подарившего их матери подарок.
Зачем?
Эти клавикорды выпадали из стройной картины немой семьи.
Откуда было взяться музыкальным генам Исаака, если не от матери или отца? От пресловутого дедушки кантора из Одессы? Того самого Иосифа, в честь которого был назван первенец Иосифа – Борис?
Нет, это в принципе возможно. Проснувшиеся у внука гены, под влиянием некоего стресса, как результат компенсации, как следствие изменившейся внешней среды, давшей новые психические свойства на самом высшем витке. Мозг – сигнальная система самого совершенного образа действия.
Но как быть с традицией, которая, я точно знал, существовала в местечках. Если в доме стоят клавикорды и отец не играет, значит – это приданое матери. Старинный клавишный инструмент, предшественник рояля, чаще всего доставался невестам в приданое, когда они выходили замуж. В то время в местечках в приданое невесте отдавали то, что было ей очень дорого, чтобы она не грустила по родному дому.
Я готов был отказаться от собственной интуиции. И я от нее отказался. Но только раз. Дважды – уже не будет. И еще я не отказался от перечитывания старых воспоминаний. И открыл как-то на досуге много раз читанные воспоминания Бориса, и не поверил своим глазам: он же мне все подсказал.
«Отец, – писал Борис, – не умел играть ни на одном инструменте. Но он всю свою жизнь, сравнительно недолгую и очень трудную жизнь (это дань шестидесяти годам, когда писались эти воспоминания, про счастливого и богатого отца ни слова! – Д. М.), любил искусство (куда же без него! – Д. М.), музыку, особенно украинские и еврейские песни.
А мать… (и вот здесь я закричал во весь голос! – Д. М.) …обладала незаурядным слухом и небольшим, но очень приятным мелодичным голосом. Чистым, за душу хватающим голосом».
Но как же тогда утверждение Ларисы Борисовны, что она никогда не слышала поющую Розалию Исааковну? Ведь память у детей цепкая. Ответ, неожиданный, дал сам Борис.
«Она почти никогда не пела при гостях. Но мы часто слышали, как она напевала с большой задушевной выразительностью мелодию модного романса, а чаще – какую-нибудь еврейскую песню.
Тогда игры в детской прекращались, споры затихали, мы подходили к двери большого зала и приоткрывали ее. Там у стареньких клавикордов сидела мама и напевала, подыгрывая мелодию по слуху. Для нее отец купил старые клавикорды, так как знал, что она любила музыку и до замужества начала было обучаться игре на скрипке».
Старенькие клавикорды… Не рояль, не пианино, именно клавикорды.
Я полез в энциклопедию, клавикорды бросили выпускать с изобретением пианино.
В мемуарах Исаака Башевис-Зингера я нашел упоминание: «…дочерям в еврейских семействах передавали в качестве приданого музыкальные инструменты». Борис вспоминал, что его мать училась играть на скрипке. И тут «старенькие клавикорды» встали у меня на свои места.
Не было никаких стареньких клавикордов.
1970-е годы, советская цензура, благородство, выводимое из нищеты, правильное происхождение, выводимое из бедняцкого прошлого родства не помнившего, – все это возведенное в добродетель… Да они все врали, чтобы только выжить. Старенькие клавикорды были на самом деле антикварными клавикордами, передававшимися по наследству от матери к дочери. Свои, значит, Розалия получила от своей матери Зислы…
В душе поднялась буря.
(О радость мальчика Бориса! Не отец покупал старинные клавикорды, а мать взяла это как приданое из своего девичества, что тогда было частой практикой.)
«Как сейчас вижу, – продолжает Борис, – сидит она в полутемном приемном зале (окна в переулок после погромов не открывались. – Д. М.) и, перестав напевать, задумчиво наигрывает популярную в то время “Молитву девы”. А мы втроем, а может быть уже вчетвером – Исаак, Зина, Миша и я стоим у дверей и смотрим, как ловко парят ее тонкие руки над клавиатурой старенького инструмента».
Мне стало интересно: что это за «Молитва девы»? Девы Марии? Я думал именно так, но французы переводили это как «Молитва служанки»…
Я пошел в библиотеку и взял наугад пару пыльных фолиантов начала ХХ века, переплетенных в 1960-х годах. На обложке из серого картона была наклеена прямоугольная пожелтевшая бумажка с надписью, отбитой на старой печатной машинке: «Популярные мелодии начала века». Я начал листать ноты. Наверное, Провидение иногда останавливается на нас, как взгляд незнакомки. Меня зацепила польская фраза… я уже листал ноты дальше, и пришлось судорожно тормозить, возвращаться, искать ту промелькнувшую страницу, где было написано, кажется, какое-то польское имя.
Страницами пятью выше я наткнулся на надпись по польски: «Modlitwa dziewicy» («Молитва девицы»), но Дева у поляков – это только Богородица, и никто кроме. Автором мелодии значилась Текла Бондажевска-Барановска[14].
Я начал мысленно проигрывать мелодию, сбился и дома сел за пианино. Пальцы, в отсутствии ежедневной практики, становились не такими послушными, ухо посылало сигналы отчаяния, но кто мог меня услышать… главное, что я слушал музыку, которую исполнял маленький Исаак. Пять раз я проигрывал какую-то невероятно протяжную и грустную мелодию, а потом полез в справочники. И сразу же наткнулся на чье-то описание «Молитвы Девы» в прозе. Это было именно описание мелодии.
Только ради памяти автора тех строк я приведу его сочинение целиком, потому что это того стоит. Я был ошеломлен. С первой строчки. Описание трогало мощью, даром, которыми дымились строки… Но я не знал автора, выхватив абзац. Неизвестно какой персонаж спрашивал:
«– Молитву Девы?! – полувопросительно, полуутвердительно спросил он (персонаж воспоминаний. – Д. М.) и взял первый аккорд.
Понеслись звуки этой игранной-переигранной мелодии, которую так любят играть институтки и старые девы, которую улица и шарманка обездушили и лишили всей ее прелести. Но в этих звуках давно знакомой и переставшей уже трогать нас мелодии здесь, под пальцами старика-тапера, что-то заискрилось новое. Какая-то неуловимая нотка прорезала низкие густые аккорды. Нотка, в которой почудилась нам и тоска – наша собственная, вот-вот ожившая тоска, и чьи-то слезы – не те, давно слышанные в этой мелодии слезы, – а новые, идущие сверху, с небес. Кто-то большой и сильный плакал о ком-то, кому и тяжко, и страшно, и выхода нет».
Чувствуете? Я тут же захотел узнать, кто это написал. Автором значился Гольдберг. Я сначала подумал, что он музыкант, но потом энциклопедия и википедия это опровергли. Исаак Григорьевич Гольдберг был писателем, евреем, эсером, начавшим писать и стрелять до революции, оставшийся строить новую жизнь в России (видимо, привязка к языку сделала свое дело) и за это расстрелянный в 1938 году. Жил он в Иркутске, и кажется, там и умер. Самое главное, не я один испытывал восторг, его рассказами зачитывался молодой Александр Фадеев.
Я снова сел играть «Молитву Девы»… Эта мелодия, написанная полькой, мечтавшей о замужестве… Была в ней некая грусть. Грусть, задуманная не исполнительницей, но создателем, положенная им в основу жизни наравне с любовью и радостью, до всего того мрака, который он доверил пережить спустя миллиарды лет маленькой польской девочке по имени Текла.
Текла Бондажевска-Барановска…
Как много польского гения повлияло на воображение Исаака.
А вообще, в основе «Молитвы Девы» лежит неаполитанская мелодия. Одна из тех, что распевали неаполитанские рыбаки.
«Песнь песней»
Дунаевскому было 17 лет, когда матушка-Россия, как змея, сбросила с себя старую кожу и явилась миру в новом, доселе невиданном облике. В облике дракона.
В городе Харькове судьбоносные перемены переживали по-особому, они наступали как-то незаметно. Индивидуально. Из окон музыкального училища, где слушал лекции Исаак Дунаевский, было видно, как показался и исчез всадник на лошади. В разных концах города раздались выстрелы.
Революция началась, когда он увидел бледное лицо Николая Николаевича Кнорринга, директора своей гимназии. Кнорринг вошел в класс, посмотрел на учеников и вышел. Потом вернулся и, сухо кашлянув, посоветовал им не гулять по вечерам.
Уже дома, у Дерковских, Исаак узнал, что в Петербурге стреляли. Царь отрекся от престола. Вся власть перешла в руки Временного правительства.
Революцию делали ровесники Дунаевского. И даже юноши моложе, чем он. Владимир Галактионович Короленко, который с 1917 по 1922 год жил на Полтавщине, писал, что в первые годы революции можно было встретить двенадцатилетнего ученика местного коммерческого училища, записавшегося в Красную гвардию. Об одном таком реальном герое из Полтавы рассказывали, что он пришел в класс вооруженный, закурил папиросу, вынул револьвер и навел его на буржуя-учителя. Другой учащийся бросил бомбу под лошадь бывшего полтавского помещика.
Среди защитников новой власти обнаружилось очень много еврейских юношей, вспоминал Короленко. Их грубость и хамство казались мещанам особенно вызывающими. Но их можно было понять. Русские привыкли видеть перед собой покорного, бесправного еврея, обреченного жить где-нибудь на окраинах, а евреи, почувствовав, что большевики их не притесняют, поспешили такую власть поддержать.
Мудрый профессор Наум Шафер, один из крупнейших знатоков творчества композитора, съевший на истории жизни молодого Дунаевского не один пуд соли, говорил: «Исаак поначалу не принял революцию. Поначалу не принял». Как здорово для потомков-демократов и как опасно для самого композитора!
После революции многие, ее не принявшие, сгинули. От Кнорринга осталась только одна фотография. Позже, в середине 1920-х годов, он обнаружился весточкой из Франции. Но Исаак не стал ему отвечать, это было опасно: Кнорринг считался белым офицером.
Впрочем, в 1917 году Кнорринг еще никуда не убегал. Педагог думал, что его знания будут нужны при всяком режиме, и продолжал учить гимназистов, устраивать домашние концерты, на которых Исаак был первой скрипкой.
Кумачовый лозунг «Вся власть Советам!» опрокинул старые песни и старые гармонии, которым учили в музыкальном училище. Строгий, классический аккорд стал «разрешаться» куда-то в сторону, в дребезжащий диссонанс. Все пошло наперекосяк. Исаак почувствовал себя очень взрослым, будто у него вдруг выросли усы.
Весь мир «сел на иглу» и закрутился в хороводе убийств. Началась Гражданская война. Все, что было в доме теплого, стало постепенно исчезать, попадая в лапы дремучих мужиков в солдатских шинелях, что стучали в окна и просились на постой всего на одну ночь. Пропали сначала шубы, потом молоко, дрова. Это были приметы времени, это был стиль зимней стужи 1918 года, которая растянулась очень надолго.
В Харькове тех лет главная беда и опасность для Бориса и Исаака Дунаевских – их собственная фамилия. Власти ищут какого-то борца за свободу, преступника Дунайского. Кто это такой, братья толком не знают, но зато в газетах периодически печатаются сообщения о его розыске. У них уже несколько раз спрашивали, не являются ли они его родственниками.
Вдруг в Харькове зазвучала чужая речь. Такую Исаак слышал только на уроках в гимназии. Это пришли немцы. Украина стала одним большим сдобным пирогом, который все, кому не лень, пытались поделить. В доме Дерковских поселились два немецких офицера. Это были герр Анхальт и герр Сиблер, которым понравилась уютная Грековская улица.
Фанни Яковлевна Дерковская, хозяйка дома, довольно скоро перестала их бояться. Немцы оказались интеллигентными. По вечерам играли на скрипке и простеньком пианино, которое перетащили из комнаты отца Дерковского. Немцам нравились Чайковский и душещипательные немецкие романсы. Они были законченными лириками, но с пистолетами в руках. Впрочем, это их не портило.

