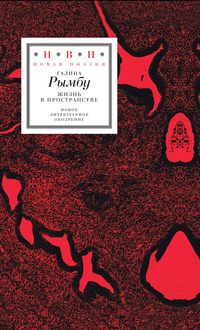
Жизнь в пространстве (сборник)

Галина Рымбу
Жизнь в пространстве
© Г. Рымбу, 2018,
© А. Глазова, предисловие, 2018,
© А. Кручковский, фото, 2018,
© ООО «Новое литературное обозрение», 2018
* * *
Истец за силу
Стихи Галины Рымбу обладают основным свойством, необходимым для непосредственного действия поэтического текста: они захватывают. Артикуляция, выраженность голоса, ясность слова и фонетическая яркость сразу вступают в восприятие читателя и влекут за собой. В то же время за их ударной силой стоит не менее энергичная рефлексия. Стихам размышляющим, как правило, привычен негромкий и доверительный тон, но не в этой книге: она не пытается внушить доверие, а заставляет вздрогнуть, на мгновение очнувшись.
Такой громкий звук не был бы, однако, достаточным обоснованием вслушиваться и вчитываться дальше, если бы за ним не стояла более долговечная и существенная работа с – и над – языком. Сгущение эмпатии и прямоты, ведущее прямо в сердце этой поэзии, образует своего рода притягательное поле, организующее строй текста и, вслед за ним, чтения. Теперь, захватив одним жестом внимание, автор должен удержать его, если не хочет так же быстро его потерять. В этом и состоит главный риск и азарт. Тот, кто яростно притянул к себе, должен обязательно верить в то, что и к нему будут безоговорочно льнуть. Одного начального притяжения недостаточно для продолжительного разговора, и более трудная задача этой книги состоит в том, чтобы втянуть читателя в, может быть, менее стремительный, зато более емкий поток речи с ее водоворотами вопрошания, ответа и ответственности, приходящий на смену водопаду начального эмоционального толчка.
Движение речи, ее поток, здесь осознается автором как движение материальное. Экономия слова, графическая и смысловая организация текста, эмоциональная заряженность используются трезво и ясно: материалистически. По той же причине и главной темой книги становятся материальность и организация материи во времени и пространстве, в первую очередь – материи языка во времени и пространстве письма:
причины материи не вовлечены в принципы ее организации, знак не имеет отношения к тому, что делает; и остаточный смысл как бы придерживает себя самого за части, скатываясь в глубину закрытой комнаты, закрученной вокруг своего существования в типе «комната» («способы организации материи»)
Язык и его материя сосуществуют в общем потоке, закручивающем и втягивающем в себя смыслы и самого субъекта речи. По мысли Соссюра, язык опирается на плавающую связь между означающим и означаемым, и именно вязкость и текучесть этой связи не дает речи онеметь; у Рымбу же речь держится на «остаточном смысле», который «закручен вокруг своего существования»: это воронка, организующая поток говорения и остающаяся собой, какие бы означающие и означаемые, от комнаты и «комнаты», в нее ни попадали. Это представление о структуре языка соответствует не столько соссюровской диалектике означающего и означаемого, сколько понятию истока в понимании Вальтера Беньямина, как оно описано в предисловии к «Происхождению немецкой барочной драмы»: «Происхождение [Ursprung, исток] стоит в потоке становления как водоворот и затягивает в свой ритм материал возникновения» (пер. С. Ромашко). В потоке смыслов и знаков важно удержать верность говорению, которая не вовлечена в их кружение, а которая это самое кружение и есть.
Отсюда же следует и осознание автором собственной вовлеченности в процесс речи. Индивидуальность голоса, связующая материю речи, сплетается из того волокна, из которого состоит современный и доступный поэту язык, язык поэтической современности. Нить, которая проходит через всю совокупность языка поэзии – и даже не столько нить, сколько идея нити, на которую полагается идея полотна, идея сплетения и текста, – принадлежит не самому поэту, а разделена со всем множеством людей, носящих самоопределение «поэт»:
поэзия как сообщество – это ткачи; неважно, кто ткет, важно ли то, что ткется? навряд ли, – руками допущена нить, – если так, то строчка идет поверх всего («одно значение»)
Когда Генрих Гейне, подружившись с Карлом Марксом полторы сотни лет назад, писал своих знаменитых «Силезских ткачей», его рефрен «мы ткем, мы ткем» звучал угрозой; в стихотворении Рымбу же важны не столько ткачи и не столько то, что они ткут, сколько та «нить», которую их руки допускают, впускают в мир. Не на угрозе, а на надежде на спасительную прямоту нити-строчки держится стихотворный текст.
Эта надежда на общий язык как на уравнивающий и выдерживающий любые прорывы в речи частной и личной делает стихи Рымбу родственными не столько «Ткачам» Гейне или революционным стихам и песням с их призывом к всеобщей солидарности, сколько утопическим мирам Андрея Платонова, в которых равенство изображается уже наставшим. Послереволюционная Россия оказалась на обломках мира, единственным реальным достоянием которого осталась бедность, и именно из этой бедности Платонов творит свой идеальный мир коммунизма.
Платонов, по словам самой Галины Рымбу, во многом служит ей ориентиром. И это объяснимо: его идеализм, оказавшийся слишком радикальным, «антисоветским» для страны победившего большевизма, хранит в себе надежду, необходимую поколению тех, для кого крах СССР лежит слишком далеко в прошлом, чтобы быть осознанно пережитым и встроенным в личную взрослую историю, но недостаточно далеко, чтобы стать историей общей, книжной, не затрагивающей напрямую личной картины мира. Платонов, при всей утопичности его текстов, оценивал образование СССР во многом реалистичней самих его лидеров: бедность и руины, составлявшие обыденную жизнь, были для него не временными издержками нового строя, а как раз ресурсом, из которого должна была родиться новая человечность, законы и принципы которой он воображал и изобретал. Эта утопия дает тот материал, который затягивается в исток тогдашних надежд, вовлекающий в себя и теперешние тексты Рымбу.
утопия имеет смысл, если что-то вообще было временем («одно значение»)
Смысл, вытянутый из истории и втянутый обратно в разговор, делает поэзию делом сохранения материи языка. Если задачей Платонова было создать язык, извлекающий что-то спасительное из послереволюционных развалин, то задача, стоящая перед Рымбу теперь, – овладеть этим спасительным языком, обжить его, «одомашнить», сделать родной речью, и поэтому в большой части своей книги она обращается к воспоминаниям о доме, к родным и близким в Усть-Ишиме. Фигура отца вбирает в себя память об экономическом неблагополучии советского и постсоветского времени, отраженную в стихах как часть личной истории. Вместе с тем из отношения к фигуре отца вырастает и необходимость того, что автор называет «доступным письмом»:
работа поэзии становится все более отличима, как труд, как смешение форм труда, происходящее без превосходства. мне снится, что мы никогда не узнаем: что такое – письмо доступное всем? («праздник»)
С одной стороны, поэзия Рымбу ищет путей присоединиться к труду заводского рабочего; с другой стороны, всем доступное письмо остается под вопросом, как и «смешение форм труда»: возможен ли такой поэтический язык, в котором труд рабочего и труд поэта стали бы доступны друг другу, пригодны для натурального обмена? Просто ответить утвердительно значило бы отвернуться от реальности; ответить отрицательно – значило бы отказаться от надежды. Внутри этой дилеммы написаны стихотворения, связанные с отцом: «только в нашем районе было столько заводов», «ответ Киева», «мой отец спит на полу». Здесь напряжение особенно велико, и в них книга подходит к своей критической точке, к пределам того, что еще вмещается в поэтическую речь, и затем – что уже переходит за грань, за которой стихи превращаются в инвективу, выбрасывающую речь из поэзии в подобие юридического ходатайства в защиту пострадавших от человеческой несправедливости. Говорящий здесь предъявляет иск – одновременно и вселенский, в защиту человечества, и, своим земным краем, сугубо частный, в интересах родных и друзей. В этих текстах, так требовательно ищущих прямоты и справедливости, возникает двусмысленность: поэт как будто и верит, и не верит в собственную силу, словно бы слову требовалась поддержка извне текста, и читатель вынужденно превращается если не в ответчика, то в свидетеля суда, на котором решается, на чьей стороне правда.
Однако суждение находится не по другую сторону, а в самом же тексте. Сила, к защите которой обращается говорящий, возникает из движения самого же текста, из кружения постоянного в нем истока, рождающего образ за образом, представление за представлением:
спустя время, ты говоришь: движение – это луковица урагана,с которой разрушенными рукамираз за разом снимаем новую силу, еслипредставление было утрачено(«время земли»)Тогда как труд связывается с фигурой отца, защитная сила исходит из фигуры женщины. Женщина (возможно, мать) освобождает труд из замкнутого пространства и времени, из непосредственно предлежащей ему материи. Она привносит волю к воздвижению и продолжению жизни, она не оставляет работы над тем, что есть:
спрашиваю ее: как, после того, что случилось, ты делаешь это в доме? отвечает: знаю, что случилось, но это не мешает мне месить муку с водой в моем доме, удерживать этот дом («время земли»)
Говорение – это труд, как многократно и многосложно артикулируется в книге; но у говорения есть еще одно измерение, которое поднимает его над трудом, и выход в него осуществляется через женскую речь:
футбольное поле, преображенное взрывом; собрание женщин на его границах вокруг разрывающих землю звучащих конусов, несколько снимков с собрания, показанных после в главном здании под грохот медицинского вертолета;
слизистый крохотный свиток, и то, как он из меня выпал вместе с остатками пуповины; это не свиток это не женщина и это не тело, а то, что смотрит на остаток в воде вперемешку с кровью, ожидая звонок из центра, в районе схватки («фрагменты из цикла „лишенные признаков“»)
То, что зарождается, – не живое тело и не книга («свиток») как таковая, но такой способ речи, который приносит спасение более надежное, чем «медицинский вертолет». Стихотворение преображает схватку как военное действие в родовую схватку, причем рождается здесь сама речь, речь от речи поэта. Слово «схватка» вырвано из района схватки и отдано тому, что вот-вот родится, нарождающемуся, еще почти немому языку.
Схожую работу над языком Вальтер Беньямин описывает в эссе о Карле Краусе. Для Крауса, говорит Беньямин, цитирование тех текстов, которые он, пародируя, критиковал, было способом вырвать слово из контекста, чтобы его спасти: «В спасительной и карающей цитате язык проявляет себя как матрица справедливости»[1]. Беньямин приводит пример такой цитаты: Краус набирает слово Granat («гранат», но и «граната») в разрядку, G r a n a t, вырывая его из статьи противника. Так и у Рымбу слово «схватка» используется как орудие, выхватывающее речь из-под оружейного грохота и возвращающее ее матери, матрице-языку. Цитата, вырванная из контекста, возвращает, по мысли Беньямина, слово к истоку (Ursprung), а в стихотворении Рымбу способом вырвать слово «схватка» из района боевых действий оказывается врожденная полисемия поэтического языка.
При помощи полисемии автор добивается спасения речи через изменение, которое хочется назвать христианским словом «преображение». Оно упоминается в процитированном выше стихотворении и неоднократно встречается и в других текстах книги: «что-то вроде скульптуры знания с лицом, преображенным внутренним взрывом», «изгибаешь преображенный рот пустыми сообщениями мира без времени», «книга упадка, загруженная в пределы памяти и плоскость, на которой лежат лишенные признаков осколки создания, обдуваемые ветром преображения». Преображение – праздник, установленный в память о том, что божественная природа проявилась в человеческом образе Христа. Преображение, происходящее в стихах Рымбу, хоть и профанное, указывает на спасительную способность языка сохранять то, что подвержено материальному распаду и разложению. Это изображается в стихотворении, празднующем существование языка, начиная с самого заглавия, «праздник»:
когда кровь станет матовой, а матка волшебной, и земля станет вся изплодов – овощей и фруктов, вмерзших в землю,и мы будем собирать их, чтобы отнести на нефтяную вышку,где вместо откачивания нефти наши друзья играют музыку и что-топьют, я разрежу плоды, а из них посыплются семена значенияво множестве, предложу подруге съесть их, а она скажет: «ты что,хочешь обидеть меня?»нет, вот другие яблоко и перец, без семян, возьмиУтопическое возвращение языка в райскую матрицу, к «волшебному» изобилию, к плеторе значений не отменяет работы поэзии над его достижением, оно лишь указывает на то, что завершить такой труд было бы «праздником», восполнением всех затраченных сил. Стихи – залог влагаемых в говорение сил, и в самом акте говорения и заключается их надежда на полноту.
В таком преображенном языке люди, друзья собираются в «мы», чтобы праздновать свою общность, о стремлении к которой говорится во многих текстах книги. Сообщество живущих связано сообщением, переданным преображенным языком:
рот – шире ворот речиживот живет своей жизньювсе стало сильнее, строже,как будто бы пишется сообщение(«одно значение»)Сообщество, о котором идет речь, не превращает людей в одно синтетическое целое. Это сообщество тех, кто ищет границ с ближними и находит общность с ними в совместном нащупывании и проживании границ. Особенно это заметно, когда речь заходит об общности тех, кто связан сексуальным желанием. Сексуальное влечение обладает властью обращать влюбленных в одно синтетическое целое, стирая границу между ними. Разделение между «он» и «она» стоит в центре цикла «жизнь в пространстве»:
она наблюдает, как он становится ей…когда она взяла ее за плечив белой траве, она еще была «им», но двигалась на мне, как «она»…пусть эти двоебеседовать продолжают над гетеротопией взорванных построений,пока она\он лежит в комнате, отражая закон…проводится длительное собеседование о причине границ…Желание становится той силой, которая не только сближает, но и не дает этим двоим слиться в одно целое, и любая попытка трансгрессии через это разделение делает ощутимой цезуру между ними. Трансгрессивность тем не менее необходима, чтобы в процессе «собеседования о причине границ» как раз и выявить черту между «она» и «он»: «она\он». В этой двоякости полов с их взаимным притяжением черта изображает то невысказанное сообщество, которое не нуждается ни в объединяющем «и», ни в исключающем «или». Безмолвное сближение у немой черты обнажает желание целого и вместе с тем осознание того, что истинным его выражением является не слияние, а со-отношение:
проблема в самомсоотношении частей на отсутствующем целом; зрение вырвано в егопродление только вовнутрь(«способы организации материи»)Сила, сближающая людей, не способна непосредственно соединить их, она нуждается в посредстве, посредничестве чего-то, что организует среду их сообщества. Таким посредником – истцом – за силу притяжения и становится поэзия как сообщение. Сетями сообщений связывается материя сообщества, организованная пусть не утопией коммунизма, но вещественной, земной коммуникацией. Сообщество, воспринимаемое посредством поэзии, существует в том же времени, что и сама земля – во времени земли.
тучи ночныхсообществ висят над бочками, раскинуты во все стороны старыелестницы, между ними – огонь восприятия;изменяя границы сухого тела, время земли(«время земли»)Анна ГлазоваI
Жизнь в пространстве
* * *жизнь в ограниченном пространстве. так, что недостоверно любоепространство; под мусорным куполом быстрые перемещенияв поисках белой еды; перевернутый грузовик с продуктами, дождь,потоки грязи, сбивающие с ног, вывеска сбитыми символами о том,что было сохранено: то, что описывало, окружало ситуацию еще дослов. между отсутствием и проявлением – связки серого времени* * *что-то вроде скульптуры знания с лицом, преображенным внутреннимвзрывом; бочки с водой на охраняемой станции иссякающегосостояния; знаковая торговля от камня к камню, но уже не в уме: тотсам, освобожденный от знака, к теплому льнет животному; круглыйсвет постепенного тела и утро касания в столпотворении форм,когда камера в каплях лица обнимает иссеченное место* * *сознание вчерчивается в глубину состояния, в стену осоки надпромышленным озером; толкование размещает дом на краю района,вызывая лифт тела в шахту представления. глубина малого места.держась за занавеску. интерфейс в стачке с потерянным временем,промышленный череп, поднятый над домом, раскрытые половицы;она продолжает говорить по телефону и собирать вещи девушки,он затемнен – ближе к стене* * *невозможно все свести только к динамике поверхности, динамикестановления: когда она переходит к ней и от нее к нему, «любоеизменение требует наличия определенного невыраженного избыткаили осадка, какой-то нереляционной части объектов, позволяющих имвходить в новые отношения»; в республике серого света терроризмв ритуальности торгового центра, в костюме найк, в медицине итехнологиях; таяние границы между телом и средой,когда оглядываешься на себя в ней* * *мертвые деньги. живое пиво. и завод гудит без людей, как раньше,обнимаясь с пространством, а люди текут в изваяниях камер, понятыхбез пространства. купола лишенных жизни растений и трубки ночныхцветов, срубленных где-то за городом. забастовка фур вдоль трассы изеленый дым от них. знак разрушенной фабрики и ночной фермыскрипучий крик. мужчины в больничных масках, облокотившисьна фуру, смотрят как падает ее тело. когда она взяла ее за плечив белой траве, она еще была «им», но двигалась на мне, как «она»,и коридоры камер лица соединялись над нами* * *снова движенье прибито к земле, и пьет свой старый напиток владыка-рабочий в глубине ледника. черное солнце горы спускается в ящикприпадка. чувствуешь, как останки травы обнимают лицо. холодныекамеры в каплях лица, которые смотрят, как в другой глубине онстановится ей, становится столпотворением, ночной органикойперехода под безлюдным знаком ножа. в открытом пространстве,врезаясь в границы, освещенные холодным сиянием соединениймелких животных, она наблюдает, как он становится ей;и пустыня противодействия одолевает его спящее тело* * *между отсутствием и проявлением связки серого времени. то,что произошло позже – книга любящих, сделанная из плазмы, танкер,поднятый над водой, и компьютер из бьющихся рыб. пусть эти двоебеседовать продолжают над гетеротопией взорванных построений,пока она\он лежит в комнате, отражая закон, а другие в землю и камниотгружают тела за пределами города; это книга, и ты не смотришьтуда, в ее сторону, в ее плазму и влагу, прекращенным мышлениемпересекая пустыню знака, видя, как становятся они, онана иссякающую поверхность, в пламенный промежуток* * *получив приглашение, они пришли, не уверенные до концав существовании хозяев этого места. поднимая узлы животныхи личных вещей над скрытой колонией, они шли, огибая лес растерянных сооружений;на стоянке она трогала книгу, еще оставаясьим, а он шел с ними, еще оставаясь инструментом, голодом миграции вожидании места, которое когда-нибудь настигнет их, лежащихв иссякающем пространстве с разряженными мобильниками старогообразца, покрытых светом ночных насекомых, цыганским огнем;стать ей, стать странной машиной, не расположенной в пространстве страны, – так думал он, отдыхая в яме под гамбургом,закрывая руками от летящих сверху горстей земли камеру в капляхлица. стать влажной, огнем миграции* * *видя, как танкер поднимается над водой, он понимает: пора перейти кней по этому коридору, освещенному хлопковым светом мелкихживотных соединений, где ходят во сне люди в военном и штатском,где проводится длительное собеседование о причине границ.люди в военном и штатском. не до конца просыпаясь* * *что-то вроде скульптуры знания с твердым лицом, преображеннымвзрывом; бочки с водой на охраняемой станции иссякающегосостояния; знаковая торговля от камня к камню: тот самосвобожденный от знака к теплому льнет животному; это книга материили танкер без знака, поднятый над водой равниной состояния;сколько их было в тебе, когда она это читала, когда он сказал: «только коммунизм приводит в движение слова, делает тело простым, пока тыв страхе своем навстречу ему раскрываешь танкер лица»* * *устройства из огня. и сообщения в волокнах растений. потоки светапо синей плоскости тянут слепого быка, и ты над ним едешь в машинепризнания на один промежуток еще возвращен к пустому станку.но есть ли там что-то от нас? то, что стало возможнымв прекращенном мышлении* * *как будто иглой ты стала, стал этим утром и прокалываешьвосприятие; и снова все в шов возвращается: то, что ты моя мать иликнига, – вы вместе погружены в песок лица. капли камер, собранныедругими из нас, из нашего опыта, тонкие тени, организующие огонь иглину, доставляют касание к тебе через невозможный момент,пропущенный знак в действительной книге* * *воображенное поле, и тело, утраченное на границах прерванногомышления, становится картой застывшей поверхности твоего дыхания;D. погружает руки в собаку, еще теплую, и делает заключение омышлении, но отбрасывается вовнутрь их совместного состояниягулом новых распределений; они вмешиваются в D. и поднимаютсобаку, омывая временем, чтобы оставить вне восприятия, общего сна,отраженного в сердцевине выжившего ума. тем временем, там,в глубине восприятия собственника, D. не может ничего, и судорогапрокатывается по его телу, заставляя непрерывно строиться картупутешествия; конец путешествия – стать ее проявлением, двигаться ееживотом* * *внутреннее слабо размещено; они решают освоить обычный звук,чтобы затем покрыть им ледник, стать синхронным пространствомголоса и ледника, пораженным теплом состояния. то, что послевторого прикосновения движет ледник ума к месту без знака, оставляятам. они сделали дома из мусора, из новых трудовых сил, чтобы иметьвозможность остаться здесь, но гул ясности был сильнее, чемограниченное пространство голоса и ледника, оставленноеиссякающим мышлением. теперь камера обнимает лицо, и дождь сампроизносит «дождь», но иначе. долго ли так будет, ты спросил,погружая в землю красные пальцы. пока прикасаемся* * *жилые пространства, отделенные от диких потоков воздуха;столпотворение комнаты, приготовленной ранее для одного пола,не выдерживает места. костер восприятия, прижимающий телок стене; как ты на это смотришь, закрытый в комнате распределенногомомента. черная пыль глаз, фрагменты горы, собравшиеся внезапно вгору состояния, когда пустыня противодействия одолевает его спящеетело; ускоренный звук, отправляющий слепок музыки к внутренностямспокойного участка; кислота книг, собранных для отправлениявизантийским частям* * *двигаясь от метода к размещению исключенного под мусорнымкуполом, в тени твоего живота, оставленные огнем восприятия, они —лишь промежуток, перехваченный отстраненным моментом лица,точнее, камеры, погруженной в лицо. названное ранее бездействует,сдерживая тем самым ледник бедного значения* * *если это все еще можно считать восприятием, то они могли быостаться здесь, среди других форм. скрытые памятью или нагруженныеузлами будущего, снимающего состояния слой за слоем с мертвыхтканей, запускающего процессы регенерации прямо в земле.множество новых рецепторов у тех, кто сверху, направленных на то,что происходит в земле, в вывернутых корнях, когда приблизилось еелицо, точнее, камера, вписанная в капли лица, чтобы принять нас заокружающие превращения; то, что видит и то, что говорит,размещено таким образом, что встреча стала возможной* * *быть состоянием, столпотворением в зеркале аральского дна. земные,красные, вращаясь вокруг себя, они движутся, поднимая песок, каквторое небо, регенерируя свои ткани; но колодец этой пустыни былотравлен новым свечением, пока выжившие мигрировали;тысячелетний компьютер, собранный из скелетов рыб; нефть,вытекающая тонкими струйками изо рта, читающего сообщение* * *мы пришли сюда через два экрана, как если бы это было так, что тыкоснулась нас, и уже не нужно думать о машинах, желать машинами.глина закрывает горизонт, и сухие трубки растений прокалываютвосприятие; став двумя, мы никем не становимся, и лежим отовсюду,прижимаясь к земле, пока танкер, поднятый над водой, делает мореКонец ознакомительного фрагмента.

