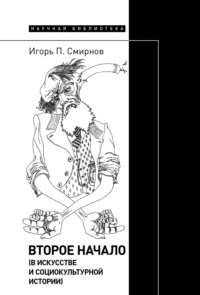
Второе начало (в искусстве и социокультурной истории)
Упадок спасения становится достоянием исторического сознания в середине XIX века (в «Трактате о физической, интеллектуальной и моральной дегенерации…» (1857) Бенедикта Огюста Мореля) в проективной форме – в качестве предмета теоретизирования, посвященного экземплярному, индивидуализованному вырождению, которое не поддается коррекции. Я не буду разбираться здесь в позднейшей судьбе представлений о дегенеративной социокультурной динамике[6]. Мне важно лишь подчеркнуть, что они имеют превентивно-дефензивную функцию, предупреждая о том, что рост историзма может обернуться исчерпанием потенций, которыми обладает homo creator. Если история на подъеме, в стадии akmé, в какую она вошла в XIX столетии в романтизме и позитивизме, осознает и старается отвести от себя опасность завершаемости, то предпринятый постмодернизмом шаг за порог истории, напротив, ознаменовался выдвижением на передний план образа нескончаемого, неопределенно растягивающегося настоящего и, соответственно, отказом от восстановления первоистоков, которые, будь они зарегистрированы, не позволили бы концептуализовать современность как сугубую длительность. По убеждению Жака Деррида («Грамматология», 1967), всякое начало затемнено, дано нам в-отсутствии, оставляя лишь след (грамму) в своем продолжении (но в мифах творения оно отнюдь не кашировано, а эксплицировано – человеку свойственно реконструировать, пусть и фантазируя, рождение того, что он застает в готовом виде, потому что он несет в себе ни с чем во вселенной не сравнимую оригинальность). Анализируя в «Словах и вещах» (1966) гуманитарно-научные «эпистемы» разных веков, Мишель Фуко декларативно отрекся от исследования их генезиса. В постмодернистской модели история, оказавшаяся за своим пределом, как не финализуема, так и не инициируема (интертекстуальность в теории (1967) Юлии Кристевой – фатально безостановочный процесс, у которого нет пункта отправки). Поскольку в постмодернистском времени не маркированы ни начало, ни конец, постольку этот способ думать снимает с повестки дня исконно бывший актуальным для социокультуры вопрос о спасении. Более того, для постмодернистской агенды показательно дерзкое опустошение сотериологии: в «Символическом обмене и смерти» (1976) Жан Бодрийяр призвал социокультуру к прекращению ее не более чем симулятивной борьбы с Танатосом и к признанию фактической непреодолимости смерти. Такой подход к смерти, конечно же, трезво реалистичен, но прими мы его за руководство к мышлению, нам пришлось бы зачеркнуть всю человеческую историю и отступить от социокультуры в чисто биологическое прозябание, в родовую жизнь. Что и произошло если не на деле, то в тех ментальных усилиях, какие были предприняты в последнее десятилетие прошлого века и в первые декады нынешнего по ходу преобразований, которым подверглось наследие раннего постмодернизма. В ставших в эти годы научной модой биосоциологии, биопсихологии и биокультурологии terminus a quo человеческой истории восстанавливается в своих правах, но опознается не там, где она зарождается в своем своеобразии, а в ее несобственном Другом, в природе. Поведение современного человека названные дисциплины объясняют приспособлением его дальних, едва вышедших из животного состояния, прародителей к естественному окружению, полному опасностей для рода homo, натурализуя таким образом социокультуру, рассматривая ее в качестве продукта, получаемого из выбора эволюционно наиболее выгодных ответов на вызовы среды[7]. Человек, однако, вовсе не адаптировался к природе, а превозмогал ее в себе и вне себя. Он нуждается в том, чтобы постоянно пребывать в зоне риска, идет навстречу опасностям, ибо хочет быть спасенным. Мы всегда не в первом, а во втором начале, в истории, даже если она еще только предисторична. Бегство постмодернизма 1960–1970-х годов из истории не прошло для нашей духовной деятельности даром, переродившись в ней теперь в преобладание над прочими подступами к социокультуре псевдоисторизма, сдвигающего начала со своих мест на чужие, полярно противоположные их собственному расположению[8]. Генезис извлекается из забвения, принимая, однако, искаженный вид, втягиваясь в quid pro quo, так что саморазвитие человека мыслящего делается неотличимым от эволюции организмов[9]. Что в раннем постмодернизме, что в позднейших его филиациях история расписывается в своем поражении.
3
Дискурсивность неодинаково реагирует на работу второго начала в социокультурной истории. Философская речь затушевывает и нейтрализует его, неся главную ответственность за то, что оно ускользает от прямого изучения, выпадая из самосознания делающего историю субъекта. Зародившаяся в период смещения от мифоритуального общества к историческому, философия в лице досократиков нашла выход из этого кризиса в том, что интегрировала Другое в данном, позиционировав себя на более высоком уровне, чем тот, на котором приходится выбирать одну из альтернатив, т. е. принимать частнозначимое решение. Правомерно утверждать, что насущной общезначимая (философская) мысль, имеющая дело с максимальным по объему и содержанию мыслимым – с бытием, становится тогда, когда в человеческом времени прошлое теряет сходство с настоящим, требуя тем самым от индивида не просто быть, а постоянно погружаться в память о себе (и обо всем ушедшем – в анамнезис), восстанавливая расстраиваемую самотождественность, снимая расколотость самости. Вбирание в себя тем, что есть, Другого выразилось у Гераклита в понимании бытия как непрекращающейся войны противоположностей. Правящий вселенским целым Логос не осеняет, по Гераклиту, того, для кого каждый день нов (кто отрывается от уже бывшего). Для Парменида Другое и вовсе отсутствует в бытии, к которому нельзя что-либо прибавить, путь в котором ведет бытующего всегда к одному и тому же – к исходному пункту. Перед нами не тот путь, который проложил себе homo ritualis, имитирующий акт творения. Парменидово бытие не возникает и не исчезает, не творится, а наличествует в абсолютной полноте того, что может открыться нам. Другое бытия – небытие, но его, как учит Парменид, нет, раз сущее – это всё. (Отличное от сущего есть ничто, повторит Парменида Аристотель в «Метафизике».)
В диалоге «Парменид» Платон во многом принял досократическое видение бытия. Единое в этом диалоге не причастно времени, равно себе и иному и исчерпывает собой всё что ни есть. Но затем, в «Государстве», Платон доосмыслил категорию Другого. Сущее в качестве иного, чем оно есть, – кажимость, являющаяся человеку в его частных мнениях (доксе), которые покушаются – в своей распространенности, ходячести – на то, чтобы господствовать над обществом. Дабы оно не пало жертвой иллюзий, его следует перестроить так, чтобы власть над ним досталась философам, умеющим отличить обманывающее нас восприятие феноменальной действительности от проникновения в ее ноуменальную толщу, мнимость от схватываемой только умозрением истины бытия, его эйдологии. (Ноумены – следствие всезаместимости феноменов, обозначившейся с завоеванием историей владычества над людьми.) Значимым в «Государстве» становится второе начало социального человека, которое в то же самое время знаменует собой и его завершение, его восхождение к неколебимой более автоидентичности, сравнимой с той, какой располагают боги. В роли «стражей» нового порядка властвующим в нем философам предназначается консервативно охранять добытое умозрением знание о вечно сущем – об идеях, единящих свои манифестации.
В какие бы интеллектуальные перипетии ни вовлекалась в своем многовековом развитии философия после Платона, она осталась – mutatis mutandis – верной либо досократическому, либо сократическому (в «Государстве») способу рассмотрения бытия. Второго начала для этого способа мысле- и речеведения либо нет, либо оно служит выявлению той последней истины, на которой стопорятся дальнейшие умственные искания (в чем философия принципиально враждебна самокритично фальсифицирующему себя сциентизму, даже если она и рядится в научное облачение). Философия колеблется между растворением бытующего в бытии и такой финализацией субъекта, которая делает его конечно-вечным.
В исподволь подхватывающей досократическую традицию философии Лейбница мир с его «предустановленной гармонией» имеет под собой то достаточное и необходимое основание, какое исключает возможность улучшения его отправных кондиций. Чаще всего умствование досократического типа обнаруживает себя в таких философских построениях, которые хотя и признают вступление в силу второго начала (будучи вынужденными отзываться на нарастающую историзацию социокультуры), но отрицают его ради возвращения к первоистоку. У Плотина первосущностным выступает всеединое, к которому должны вновь примкнуть отпавшие от него души. У Руссо человек в своем изначальном состоянии – дитя природы, от которой его отчуждает разыгрываемая им (ему не имманентная) социальная роль и с которой ему надлежит опять сродниться, чтобы избыть ложь своего исторического существования. В историософии второй половины XIX века (у Фридриха Энгельса и Фердинада Тённиса) скепсис относительно правомочности всех вторых начал принял вид регрессирующего прогресса человека к «первобытному коммунизму» resp. к общине, призванной исправить пороки, в которых тонет общество.
От сократически-платоновской модели второго начала преемственные линии тянутся к трудно обозримому ряду философских поползновений выяснить, какова та позиция, по ту сторону которой знание не будет более нуждаться в переработке. У позднего Шеллинга такая ситуация возникает после того, как слепую творческую силу Отца сменяет откровение, явленное людям Сыном, – оно заключается в том, что «второе творение» оказывается «полностью свободным актом»[10], т. е. действием, в котором субъект навсегда адекватен объектам, не может исказить их в своем сознании, ибо они не внешни ему, а порождаются им по его целеположению. У Ницше та же самая роль отводится сверхчеловеку, совершающему «переоценку всех ценностей» в пользу воли к власти, чем окончательно определяется отношение самости к миру. Бергсон провозглашает, что дискретность рационального мышления будет преодолена добавкой к нему инстинктов, которая сделает полученную отсюда интуицию познавательной стратегией, точно отвечающей пронизывающему реальность «жизненному порыву». В интервенциях философии в социокультурную историю дуализм нередко бывал имплицитным, спрятанным под триадами, каковые эксплицитно членили ступенчатое развитие человека и общества. Эта троичность не должна вводить нас в заблуждение – она умаляла второе начало в качестве лишь промежуточного, чтобы затем придать ему же, но в оптимизированной редакции, статус заключительной инстанции передаточного процесса, как, например, в барочной политфилософии Гоббса, рисовавшей переход от естественного состояния человека к огосударствленному обществу, которому предстояло в будущем не упразднить этатизм, а совместить его с церковью, причастив к Богу Живому того – лишь социально потребного – бога, что был поименован в «Левиафане» «смертным». В понятии «снятия», подразумевающем сохранение отрицаемого в отрицании, Гегель (кстати, внимательнейший читатель Гоббса) отыскал для содержательно присущего философии примата двоичности над троичностью диалектико-логическую форму. Иную, чем у Гоббса, версию превосходства, исподволь завоевываемого в философском дискурсе вторым началом над третьим, предложил в эпоху Просвещения в своей «Новой науке» Джамбаттиста Вико. Трехфазовое поступательное движение социокультуры (века богов, героев и людей) повторяется затем, согласно Вико, в обратном движении вечной и идеальной истории, так что второй ход доминирует в ней над ее усилиями уложиться в трехчленную схему.
В неопубликованных в свое время работах второй половины 1930-х – начала 1940-х годов (Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), Die Geschichte des Seyns и Über den Anfang») Хайдеггер поставил себе целью заново инициировать всю философию Запада. В действительности, вопреки своим непомерным амбициям, он всего лишь воспроизвел досократическую и сократическую традиции в попытке примирить их. Добиваясь нейтрализации расхождения в этих идейных направлениях, Хайдеггер отнял начинательность у бытующего (у субъекта истории – человека), передав ее самому бытию. У сущего есть собственная история («Geschichte»), далеко превосходящая по значимости ту («Historie»), что творит человек в забвении бытия, в покинутости им («Seinsverlassenheit»)[11]. Чтобы поименовать то, что не способен помыслить субъект, отражающий себя в естественном языке, Хайдеггеру пришлось сконструировать свой искусственный язык, в котором полагаемое нами за синонимию вывернулось наизнанку, став антонимией, бросающей вызов здравомыслию (объективирование истории в бытии вылилось, таким образом, в сверхсубъективность предпринявшего эту операцию мыслителя). В качестве антонимов в трактовке Хайдеггера выступают не только синонимичные «Geschichte» и «Historie», но также «Seyn» и «Sein». Под первым из этих онтологических понятий, выраженным в слове, не переводимом на русский (как и, пожалуй, ни на какой иной) язык[12], Хайдеггер подразумевает событие бытия, ни в чем, кроме самого себя, не фундированного и поэтому сбывающегося из бездны («Abgrund»), таящего в себе ничто – не убывающую в своей конститутивности негативную энергию (на самом деле она – достояние субъекта, который не может вообразить все что ни есть без захождения за край всего, без позиционирования себя в ничто, в неминуемой, раз мы только люди, собственной смерти). Будучи событием, «Seyn» – это уже история («Geschichte») в своем абсолютном истоке, в первородстве, о чем говорится в цитировавшемся выше трактате «О начале» (S. 9 ff), который представляет для меня наибольший интерес в сравнении с остальными частями хайдеггеровской трилогии нацистской поры[13]. «Другое начало» в онтоистории есть «превозмогание бытия-события» («die Verwindung des Seyns»), ведущее в бытие для бытующего – в «Sein» (S. 19 ff), где тот обосновывается в здесь-бытии («Dasein»). Если сущность «начального начала» – «упадок» (S. 24), расточение, то его собственное Другое, еще одно начало, воплощающееся в бытии для бытующего («Sein»), являет собой «первоначальный конец» (S. 47–48). Диалектическим образом финальность второго начала означает, что первое неконечно; она делает отправной пункт онтоистории «более начальным» и сообщает ему «достоинство» (S. 64–65). И раз так, то, по итоговой формулировке Хайдеггера, «Другое начало есть изначально начинающееся начало» (S. 94). За этой дефиницией явственно видится Парменид с его идеей движения, не уводящего от стартовой позиции. Метнувшись к философии второго начала, Хайдеггер отступил от нее к досократикам. И точно так же за утверждением Хайдеггера о том, что «человечество в другом начале сущностно существует [west] в охранении истины бытия-события» (S. 131), маячит Платон с его «стражами» философского государственного порядка. Обе философские линии переплелись у Хайдеггера, но их совмещение менее всего можно считать прорывом в до того неведомое отвлеченному мышлению. В борьбе с антропологизмом Хайдеггер провозглашает, что человек не изготовляет бытие, а принадлежит ему (S. 30), выделывается им (S. 95). Человек, конечно же, не творец бытия – на эту роль он в режиссерской манере назначает трансгуманного демиурга. То, что человек создает, есть инобытие. Именно оно подлинно событийно, представляя собой то второе начало всего что ни есть, которое открывает возможность помыслить бытие происходящим, начинающимся, составляя основание хотя и не для него самого, но все же для его охвата умственным взором.
Фундаментальная онтология Хайдеггера была рассчитана на то, чтобы стать революционным переломом в превращениях философского дискурса. Но не только она – вся философия с ее установкой на производство универсально значимых и, следовательно, бытийно релевантных суждений находится в родстве с социально-политическими и религиозными переворотами, жаждущими, по прежде сказанному, подвести общий знаменатель под бытие и бытующего, до того не совпадавших друг с другом. Новаторское слово в философии всегда хочет быть революционным. Оно насыщает бытие мыслью, которой в нем самом нет и которая поэтому то и дело обнаруживает свою неадекватность осознаваемому предмету, вновь и вновь пускаясь в погоню за идеями, могущими соответствовать реальности в полном ее объеме (Платон решил эту задачу, постулировав без околичностей тождество идей и реальности). Философия занята спасением Духа, которому она старается придать такой же императивный характер, какой есть у бытия. Она сотериологична, как и социокультура в целом, но с тем сужением этого намерения, которое прилагает его лишь к нашему интеллекту, оставляя в стороне экзистенциальное спасение человека. Тогда как революции в обществе иссякают в восстановлении старых режимов, возвращаясь из разрыва времени в историю, обновления философского дискурса совершаются, вовсе не выбиваясь из того, что Пастернак назвал «вековым прототипом», из заданной им на заре спекулятивного умствования парадигмы. Философия была ab origine тем средством, с помощью которого интеллект поднимался над частноопределенностью отдельных этапов в динамике социокульутры. Отказаться от этой надисторичности, конфронтирующей с неисторичностью революционных взрывов в обществе, было бы равносильно для философии потере идентичности. Философия заполняет провалы, возникающие в социокультурной преемственности, а не создает их, подобно народным возмущениям, уничтожающим регулярный строй государственного правления.
Литература противостоит философскому дискурсу в разных аспектах, в том числе и в своем отношении ко второму началу. Оно эксплицируется в художественных текстах, а не подавляется, как в философских. Его прояснение и подчеркивание имеют в словесном искусстве структурообразующую функцию, вписаны в саму природу эстетического сознания. В каких бы жанрово-родовых версиях ни обнаруживала себя художественная речь, она повсюду выступает явлением ритма – в самом широком смысле этого слова[14]. Именно в ритмической организации литература (как и прочие искусства) конституируется в качестве самодостаточного и автореферентного сообщения, не подлежащего проверке, которая соотнесла бы его с внеположной ему фактической реальностью. В своей рекуррентности ритм делает сообщение сукцессивно самоотнесенным, подтверждающим себя при развертывании внутренне и не нуждающимся поэтому в верифицировании, направленном вовне. Прекрасное есть ритм. Минимальное условие для формирования ритма – повтор прекращенного повтора[15], воссоздание первого начала, ретроактивно упрочившего себя, но затем сошедшего на нет, в еще одном заходе. Повтор прекращенного повтора очевиден в плане выражения стихотворной речи, возвращающейся к избираемой ею мерности после конца строки, но он определяет собой и смысловое членение (семантический синтаксис) литературных текстов, неважно стихи ли они или проза. Призрак отца Гамлета неоднократно является во вступлении к шекспировской драме Горацио и Марцеллу, исчезая с криком петуха, а затем снова возникает – теперь перед самим Гамлетом, чтобы известить его о насильственной смерти, постигшей датского короля. После колебаний между смирением с обстоятельствами и сопротивлением им Гамлет удостоверяет свидетельство Призрака, побуждая бродячих актеров исполнить пьесу об отравлении герцога Гонзаго, которая заставляет убийцу, севшего на датский престол, выдать себя. В сцене эмпирического подтверждения сведений, полученных с того света, повтор прекращенного повтора актуализуется вновь. Сходно ритмизованы и другие смысловые последовательности, с которыми Шекспир знакомил зрителей своей драмы (так, желание Гамлета отплатить за гибель отца воссоздает Лаэрт, мстящий Гамлету за совершенное им убийство Полония).
Как утверждалось, искусство зарождается в принявшем мифоритуальное обличье обществе тогда, когда вторая жизнь предков после смерти перекидывается на потомков и когда те посвящают себя репродуцированию состоявшегося в давнюю пору акта творения. Литература инерционно удерживает в себе генезис эстетического воображения, формализуя в выразительных средствах и семантических конструкциях это двойное начало, один из тактов которого уходит в прошлое, но, тем не менее, не обрекается на то, чтобы стать лишь памятным, будучи опять разыгранным в другом такте (с глубочайшим проникновением в происхождение и суть эстетического Шекспир соположил в «Гамлете» первое начало с потусторонним миром, а второе в сцене «Мышеловка» – с посюсторонним). Повтор прекращенного повтора, фундирующий ритм, без которого не обходится художественное творчество, сериализует afterlife, устремляясь к тому, чтобы (не будем брать в расчет гениальных прозорливцев, вроде Шекспира) нивелирующе выхолостить содержание сходных, но все же разных архаических представлений о жизни после смерти и жизни-из-смерти, чтобы перевести его в стабильную форму, могущую быть – в условиях исторической изменчивости – наделенной неодинаковыми значениями, чтобы, коротко говоря, выжить во всех временах[16]. Ритуальное имитирование акта творения замещается в формогенном словесном искусстве работой по образцам, постепенно – в процессе захвата власти парциальным настоящим над человеческим временем – дающей все больше места для персонального почина, не свободного, впрочем, от интертекстуальной вовлеченности автора в сотрудничество с предшественниками.
Превалирование в литературе принципа формы, становящейся всеприсутствующим содержанием ее значения, предполагает, что, в свой черед, объем ее значения будет минимальным. Если философское высказывание притязает быть универсально приложимым, то художественная речь сосредотачивается на уникальном, на индивидуальных судьбах и явлениях, а не на концептуализации бытия[17]. ОПОЯЗ был сразу прав и неправ в своем технологическом подходе к литературе. Да, словесным искусством правят алгоритмы. Но их формальность не безразлична к той информации, которую они передают адресатам художественного произведения, получающим знание о том, что такое экземплярность и в объектной среде, и в применении к субъектам. Философское созерцание коренится, согласно Платону и Аристотелю, в изумлении. Это потрясение испытывает тот, перед кем, несмотря на его единичность, распахивается в своей необозримости все что ни есть (у Хайдеггера, одержимого идеей бытия-к-смерти, традиционное для философского самосознания изумление превращается в трактате «О событии» в «испуг»[18]). На место отрефлексированного философией шока, который бытующий переживает, входя в контакт с бытием, с квинтэссенцией возвышенного, литература ставит открытое Виктором Шкловским «остранение» – видение вещей и существ с исключительной позиции, бескомпромиссно альтернативной их общепринятому восприятию, в чем формализм усматривал восстание искусства против автоматизирующейся перцепции, но что, по правде говоря, как раз автоматически следует из фиксации искусства на частноопределенном. Руководящий литературой познавательно-изобразительный интерес к исключительному выдвигает ее на флагманскую роль в социокультурной истории, в каждую эпоху которой общее движение Духа воплощается в особом – в том, что отличает только данное время. Литература падка на новое, первой захватывает плацдарм, откуда история начинает осваивать terra incognita. Литература не слишком коммуникабельна, она не раскрывает себя до конца читателю, будучи отчасти тайнописью, потому что выражает невыразимое – ведь чем абсолютнее индивидуальность, тем менее ее язык предназначается для общения с Другим (individuum est ineffabile)[19]. Вопреки своей полярности философия и литература влияют друг на друга. Литература пробует стать онтологичной в философском романе, вроде вольтеровского «Кандида» или сартровской «Тошноты», пусть обобщения касательно бытия и преподносятся в этом жанре пропущенными через персональный опыт, накапливаемый героями повествований. Со своей стороны, философия, заражаясь литературностью, эстетизируясь, делает реальность зависимой от чувственного восприятия субъекта («esse est percipi» Джорджа Беркли) и требует от отвлеченной мысли, чтобы та вспомнила о забытом ею в страсти к обобщениям индивиде («Диалектика Просвещения» (1947) Макса Хоркхаймера и Теодора Адорно).
Ввиду своего формализма par excellence литература равнодушна к тому, сохраняет или нет изображаемый ею индивид свою идентичность по ходу повтора прекращенного повтора. Второе начало может и снабжать героев художественных текстов добавочными жизненными силами, дополнительными потенциями, повышая их статус, и ввергать их в деградацию, одинаково оставаясь в обеих ситуациях ритмообразующим, идентифицирующим саму литературу фактором. Личностное спасение не обязательно входит в задание, выполняемое литературой. Ее сотериологическая функция – в другом. Формализуя продолжение после конца, литература играет роль операционального аналога социокультуры, для которой сотериология есть ее modus vivendi и ее легитимизация. Словесное творчество – это параллельная социокультура, еще одно ее явление – как формы, призванное сообщить ей надежность, застраховать ее в двойничестве с ней от катастрофы (что такое имитация, как не сведение имитируемого к форме?).

