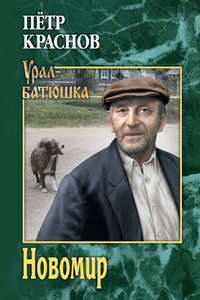
Новомир
Мама – гладкая, медлительная, с холодным приценивающимся взглядом, прицеливающимся: знаете, так мало в городе нравственных девушек, с чувством обязанности, долга… должницу ей надо, Славику своему. Не мама – фортеция, все под прицелом, все рассчитано у них от и до. Выгуляй маму, а то не прокакается никак.
Нет, Слава, и завтра тоже… Ну, я не знаю; но так получается, что я до вторника ну ни-ку-да. Ни-как. Зайдешь? Ну как это – «просто»… тем более вечером, нет-нет! Девчата посмеивались, а Нинок ладошками, как купальщица, широкий свой пах прикрыла, прихватила панически – и все так и покатились, и первая Нинок сама, аж повизгивала… Да, тут девочки кланяются тебе, русы косы поотрезали, лохмы одни крашеные… Но кланяются, пол метут ими. Конечно, Слав. Но ты уж пожалуйста. Уж отдохни, от меня стоит, я же… И от тебя, и нам – от нас двоих. Ну я же не могу сейчас, при… И хорошо. А я сама позвоню, потом – ладно? Девам отмашку, хихикают под руку, нет бы выйти; значит, как ты говоришь – до встреч, до расставаний! Но я сама, договорились? Ну, целую.
Лжецелование, оно же и лжеклятва… так и водится оно, так и ведется. Грубое дело любовь. Физиология – ладно, тут понятно; но не менее, может, грубо и это все, что душевным называется, сама необходимость этого – железная, спущенная нам с небес, железо так, наверное, спустили когда-то человеку вместо камня, нет – бронзы уже… Вот он все железный и тянется, век, хоть говорят, что атомный. С железкой необходимости этой в груди, в теле все и живут, волокутся, оттого и тяжко. Вроде как обязанность – а перед кем и, главное, за что? Перебегая двориком назад в заводоуправление, подумала опять: вот именно – за что, за какую провинность такую? Железка, а впридачу железы… Господи, чушь какая, вон уже зырит какой-то – чуют они, что ли? Чуют, псы.
Обещанье, какое Славику дала, выполнила: ни-ку-да, только дома и на работе, на телефоне. Мальчик слабоват был, мог явиться все ж, не утерпеть, и она готова была выпроводить его в пять минут: поцелуй там, по щечке погладить и – домой-домой, Слава… К маме. Сразу против души домашность их была, а теперь и вовсе. Ордер через друга-приятеля папиного временный какой-то выписан, даже в ЖЭКе удивились, такого у них вроде не бывало еще – либо уж постоянный, с правами, как на обычную квартиру, либо никакой; и она в квартире этой на самых теперь что ни на есть птичьих правах, как в рядовой общаге… А через Славину кузину, феноменальную болтушку себе на уме, дадено знать, что постоянный на свадьбе вручат, торжественно… Через ту же связную или даже через Славика – неужто знает он об этом? – она бы тоже могла условия свои выставить: ордер на стол, а все разговоры потом, хоть о чем, хоть о свадьбе той же; но и противно, и никуда со Славой не торопилась она, не уйдет… тошно, кто бы знал. Обоюдовыгодная партия – обоюдовооруженная. Ладно бы – Слава, папа, добряка-то строит он из себя, конечно, а так тоже ничего; но мама… Тяжелая, как свинец, мама. Породу улучшить желает – за счет здоровых деревенских кровей. Нравственность ей подавай, обязательства. Улучшишь, сединки прибавила б тебе.
И какой тихий, золотой какой вечер за окном, как обняло им домишки, дворы, кленовые с яблоневыми заросли частного сектора, вытеплило как все, всю его немудреную издалека жизнь – как когда-то, в былом, еще мало-мальски добром мире. Машины совсем редки, явственно слышен говор со скамейки у одного из дворов, там всегда собираются старики, и противный, скандальный крик мальчишек под самой стеной малосемейки, вечно поделить не могут… А звезды ее любимой, вечерницы, не видно, рано еще или, может, с другой она сейчас восходит стороны – бог знает с каких пор выбранной ею звезды, с шести ли, семи лет. И в какой не зная раз захотелось домой отсюда, огородом по меже вниз, к речке под ветлами пробраться и на камень сесть, гладкий от извечного полосканья бельишка на нем, от материнского валька, прохладный всегда; и натруженные, нажженные целодневной ходьбой ноги в теплую, сумеречно тихую воду опустить и смотреть сквозь прореженную понизу навесь ветвей, как нежаркое уже, погрузневшее солнце тонет в закатной дымке, в пыли прошедшего пажитью стада.
4
Он приехал на другой вечер, в пятницу: позвонили в дверь, она уже и не ждала, но платья не переодевала еще, открыла – он… В легкой куртке-ветровке, с сумкой через плечо, с некоторой неловкостью в усмешке – не ожидали? Ждали, еще как ждали, с румянцем не могла справиться, почувствовала – заливает всю, жаром охватило и тут же сжало живот, как предупреждая; а он вошел, сумку, помешкав, в угол к тапкам, мельком глазами по всему – и на нее, улыбнулся:
– Вечер добрый… Но я, Люб, ненадолго – к другу тут надо, днем еще созвонились, ждет… – И в руки ее, не знающие, что делать, газетный большой кулек сунул, легкий. – Примерной попутчице… в воду. Истерик на перекрестках не устраивала, за баранку не хваталась…
И ей легко сразу стало, еще не сознавала – почему, засмеялась, а рукам работа, разворачивать тут же стала, развернула – розы! Две белые, розовые тоже две и одна пурпурная, тяжелая, черная почти… И протянула зачарованно:
– Спаси-ибо… – И очнулась, спохватилась вся: – Да проходи же! И не разувайтесь, зачем?!
– Нет, разуться-то надо… и жарко же.
Пока, легкая, летала, вазу доставала, на ходу покрывала на креслах и диване поправляла – на столике в кухне уже бутылка муската, шоколад, коробка зефира, что ли… И он, высокий, все еще какая-то виноватость не виноватость, но и неловкость в улыбающихся ей – ей навстречу! – глазах:
– Сенокос только свалили, а тут к уборке надо, готовимся уже… замотали! Пришлось в самоволку.
Нет, не то что высокий такой уж, от сухощавости это и прямоты; и все еще ветром каким-то потягивает от него – полынным, может, или это пота запах, его продутой чистой соли, а она в тапочках рядом, к шуту эти шпильки, в тапочках лучше, на миг взглядывает еще раз – прямо в глаза ему, что-то говорит, все равно что теперь говорить, ничто ничего не значит уже – «не на губу же, в самом деле, вас, не армия же…» Говорит и глядит, не отводя уже покорно поднятых глаз, приостановилась рядом совсем, и будто за волосы изнеможенно оттягивает что-то голову ее назад, лицом к нему, и кухня вроде как уже не тесная вовсе, и нельзя ближе. Наливает воду, тормошит чужими пальцами в вазе цветы, чтобы сами распались, расположились, как им самим хочется, ему это поясняя и чувствуя, как он смотрит на нее, на ее шею; оборачивается и подает ему вазу, с пальцев стряхивая капельки воды, неудержимо тянет взглянуть опять, – и ему неожиданно нравится это, способ этот расставлять цветы, повторяет, усмехнувшись:
– Как им хочется, значит… Есть резон. А то мы все по-своему, никому свободы не даем. Даже этим… цветам этим зарезанным.
«Зарезанным…» Скажет же!
– Сама придумала! – с девчоночьей гордостью говорит она. – Расставляешь их, расставляешь… пусть сами!
– Сама?!
Сама, конечно. Все сама – или это ей лишь кажется так, может, с обид ее всяких своих, мелких… да и какие обиды теперь?! И кивает, спрашивая, да нет – утверждая уже:
– Голодный?
– Есть малость, – посмеивается он, нюхая цветы. – Пробегался, а тут некогда, на вечернюю лошадь чуть не опоздал… Сжевал бы этот веник!..
Счастливый ужас на лице ее – и в ней, отбирает цветы – «мои!» – бутылку ему вручает, шоколад и выпроваживает в комнату, следом сама, все на столик журнальный. Мимоходом телевизор, так, программку прихлопнула перед ним – потерпи, ладно? Ей время нужно, мясо поставить жарить, уже нарезанное, свининка – она быстро; и салат еще один, летний, хорошо, что помидоров с запасом взяла. Но и минуты-другой не прошло, как он уже на кухне опять – на запах, дескать, хоть никаких еще и запахов-то нет; опершись на холодильник, следит веселыми глазами, рассказывает, как вчера ночью серого чуть не задавил… не волка, конечно, нет – зайца, сейчас они серые тоже. С полминуты, дурачок, перед радиатором скакал, под фарами, а чего бы не свернуть, прыжок один в сторону… вот бы кого на сковороду!
Задавили бы?!
Да незачем… Возни с ним, да и какая сейчас шкурка? Разве что для вас – зимой, как перелиняет… Ужас! Нет-нет, ради бога. Стрелять еще куда ни шло, но давить… И вообще, не подглядывайте… не ваше дело это, кухня. Достала из холодильничка, в руки ему: вот, идите, можете хоть в обнимку!.. Коньяк?! Дело хорошее, а не плохое, как говорят китайцы. Иметь врагов – дело хорошее, а не плохое. Ага, китайцы, у них с этим четко, с плохим и хорошим… не наши долбаки. Продажные эти. Кстати, я не давлю – охочусь. С ружжом. За зиму четыре аж зайца, одна кумушка… буду иметь в виду. Еще чего нести?
Но как быстро темнеет за окном, уже не золото – медь мерцающая на крышах, кое-где провалы сумерек меж домишек, сухая туманная синь, сизость поздняя; и мертвенный сбоку, с проезжей части, от минуты к минуте набирающий силу накал фонарей, где появляются еще тени редких прохожих – косые уже, преступные. Не заглянуть в ее окно, высоко, – но как их зашторивать тянет всегда, окна, прореху эту в жилье… женское это, знает она, уже не раз такое замечала за собой, за другими, на то мы и бабье. А ему хоть вся стена будь стеклянной, лишь бы не дуло; бутылками распоряжается, не очень ловко шутит, что-то о мужских достоинствах коньяка, головой качает и морщится смешно и вожделенно от шкворчанья сковородки, с которой раскладывает она поджарку, чтобы погорячей было, прямо здесь на тарелки; и поднимает рюмку наконец он и смотрит как-то легкомысленно – нет, с усмешкой над своей легкомысленностью:
– За попутчиц?
– Ну, не за всех же… – улыбается, притеняя глаза, она, зная силу этой тени, этой тайны – которой нету, если не считать двадцать четыре ее тоски, а если и есть, то для нее такой же темной и непостижимой, как и для него. И он послушен этой тайне, он перед ней – она видит – как мальчик, он за нею-то и пришел, за тайной; и ни обмануть его, ни сказать ему всей убогой правды, какую она знает, ей нельзя, иначе она потеряет его рано или поздно. И ей остается лишь одно: до конца, до последнего хранить от него и ради него эту существующую где-то помимо нас тайну… да, хранить, всею собою утверждая, что существует она именно здесь и сейчас, в ней, в сумеречной этой, едва проблескивающей желанием тени глаз, тени слова и каждого безотчетного движения, иначе не удержать.
Он покорен ей – пока – и с мальчишеской самоуверенностью надеется, может, разгадать и это, познать не женщину только, но и тайну ее, и – сам того не желая – разочарованье в ней. И весь смысл ее, женщины, в том, чтобы уберечь его от самого себя, уберечь от разочарованья не столько даже в ней, женщине, сколько в их общей, их совместной тайне жизни… потому что, понимает она вдруг до конца, вот сейчас именно понимает, прикрывая искрящимся фужером глаза, что в ней одной никакой ни ближней, плотской какой-то, ни дальней тайны неразгадываемой нет – без него. Одна она пуста, секреты разве что какие, но ими-то она не больно дорожит, не бог весть что, и все бы, верно, отдала – ради тайны их двоих. И он тоже пустой, усталый-таки, часов, может, в пять утра встал, на мужской одной усмешливости держится, кожа вон шелушится на скуле – поцеловать бы туда, потереться… ну, что он без нее? Агроном, функциональное нечто, как Соломатин говаривал, – с тяжелым мужским, пугающим ее азартом этого познания в глазах, нарочитой легкомысленностью едва прикрытого… дурачок мой. Чужой почти, даже и жесты не все знакомы еще, узнавать и узнавать своего, вот под нижней, резковато очерченной губой сгибом пальца почесал, озадаченный, как тост свой неуклюжий поправить, – мой, не отдам.
– Не будь эгоисткой, – говорит он наконец, справившись. – Их вон сколь по дороге, по всякой же погоде – что, никого не брать?
– Никого! – мотает головой, так что волосы захлестывает в рот, смеется она. – Только этих… с детишками которые. И старше сорока.
– Сорока-а?! – Он так как-то изумлен, так глядит на нее, что она, тоже всерьез почти спохватившись, торопится:
– Нет-нет… сорока пяти!
И в смехе падает грудью на колени себе; а когда подымает смеющееся свое лицо к нему – он смотрит все еще растерянно как-то, с полуулыбкой недоверчивой, и взгляд его, помедлив, сдергивается, соскальзывает ниже, к вырезу платья… И Боже, как неохота подыматься ей под взглядом этим, прятать, ойкать фужеру в руке, отвлекая, и на спинку откидываться – но надо.
– Однако… – говорит он. – Рамочки! Есть же знаешь какие… мотор глохнет возле таких. Сам!
– Ничего не знаю. Сменить мотор!
– Придется, – как-то буднично вдруг соглашается он, будто о моторе и речь; и уже прищур опять этот, спокойный, а усмешка домашняя какая-то, близкая, где только взял. – Тогда за одну… за тебя.
– Ну нет, как это… За нас. Чтоб никому обидно не было, – оговаривает на всякий случай она. С улыбкой глядит, ждет – и он, покорный тайне, первым тянется рюмкой к фужеру ее, звякает и, кивнув ей, не торопясь пьет. – Только на меня не гляди, ладно? Ешь! Остывает же!
– Не согласен, – говорит он, жуя уже и пытаясь подцепить вилкой ускользающий грибок.
– Чего – не согласен?
– Не глядеть.
Она не помнит, точно ли так все было тогда, но ей кажется теперь, что именно так… Как кажется, так и было, ни при чем тут какая-то правда, которую никто ведь не знает и толком не узнает никогда. Было; и часа полтора ли, два спустя, этого и помнить не упомнишь, он засобирался, и что в ней больше было, облегчения все-таки или сожаленья, она не помнит тоже. Весь завтрашний день был обещан им, сердцу не тяжело было ждать, она пошла проводить его до телефонной будки – товарищу тому еще раз позвонить, предупредить о приезде своем, ночном уже.
На полутемной лестнице навстречу подымался медленно, будто на что-то недоброе решаясь, заметно подпивший мужик, и он в два шага, как только увидел того в пролете, поменялся местом с ней, нашел руку ее своей, сухой и теплой, и так, несколько сзади себя, провел. Рук они не разняли. От асфальта все еще шло теплое, соляркой отдающее удушье, разве что немного просвежело. Им пришлось, отойдя в тень кленового, самоволкой выросшего под стеною подгона, переждать компанию – в ней и девки были, – которая толклась у будки, что-то по очереди орала в трубку, смеялась, материлась и взвизгивала. Он только спросил, есть ли другой где рядом телефон, она покачала головой – поразбиты все – и чуть переместила ладонь свою в его руке, самую малость поудобней, и еще плечом к груди его не прислонилась, нет, – коснулась; и так стояли они, ждали, пока орава эта человек в пять ли, шесть, что-то непотребное выкрикивая и хохоча, не ввалилась в подъезд.
Зайдя и придерживая ногой тугую дверь кабинки полуоткрытой, он раз набрал номер, другой; было занято. Тогда, протянув руку и потеснясь, он вовлек ее осторожно к себе, дверца с утлым скрипом сама притворилась за нею, взял руками за плечи и не сразу, но нашел ее губы.
И от ожидаемой, но все-таки неожиданной, другой совсем, но желанной как никогда жестковатости губ его, усов, ощутимой табачной горчины их и этой повелительности ладоней на плечах своих – что-то на мгновение сместилось будто в ней, поплыло, как в первый раз совсем, когда-то; и не зная еще руками, натыкаясь ими на сумку заплечную, на угловатости локтей, лопаток его не сухого, совсем нет, но плотного, жестковатого тоже тела, она обняла его, обессиленно – за все-то эти дни – прижалась, замерла.
Осторожно, как-то бережно он целовал около губ ее, у глаз, потом к уху сунулся, потерся; а уже руки, пальцы его успели зарыться в волосах ее на затылке, добираясь, достигая истомного чего-то в ней, беззащитного, пугающе обморочного… нет-нет, ничего. И бережностью этой помалу побуждаемая от первого оцепенения, от желания просто постоять так, привыкнуть, еще этой неожиданной опытности его рук боясь и уже им веря, больше ей ничего не оставалось, – она взглядывать стала, лицо подымать понемногу, губы его ждать… Вот дыханье его, вот они, отмягчевшие, под колко щекочущей податливой щетинкой усов, откровенные теперь губы, и она тонет в них, в близости без дна и опоры… есть опора, и она еще подшагивает, сколько можно ближе, обхватывает всего, приникает – но близости, странно, если и становится больше, то уже ненамного. Ее будто даже начинает не хватать – и хорошо, и здесь, сейчас не надо больше, но ее все-таки недостает уже. Она и этой, какая есть, еще не сыта никак, не полна, еще все обретения, владенья новые ее впусте лежат, ею толком не обследованные, целые таинственные области в них, провалы девчоночьего головокружения в знающей, в ласковой властности этих рук, в прикосновеньях, мимолетных пока, посланцах проникновения, – но недостает. До мучительности потом, до непониманья, кто же и зачем придумал эту ненасытимую, страшную же, но и сладостную муку; но это познает она потом, позднее. А здесь, сейчас, еще в себя не придя после первой их долгой, бездонной, задохнуться заставившей близости, она отстраняется, почти удивленная этим, смотрит жадно, ищуще в лицо ему, в едва угадываемый в темноте проблеск глаз – и опять дыханье ловит его, теплое, губы, его понимающую, все обнимающую власть…
Он еще раз проводит ладонью, грубоватой чуть, но о своей мозольной грубости знающей, по ее щеке, отводя волосы назад, за ухо, задерживает на шее; и снимает трубку, ничего не говоря, и начинает набирать, приглядываясь в отсветах фонаря к диску. Но медлит что-то, останавливается наконец и поворачивает к ней смутное в бессонной фонарной ночи, неопределенное, как все в ней самой сейчас, лицо:
– Что ему… сказать?
Она не знает, растеряна, тычется молча в шею его – и снова этот запах, с полынком еле уловимым, ноги заставляющим слабеть, сесть тянет, как в степи на прогретый ковылек… Тычется, виновато почти, и не целует, а прижимается лишь губами в мягкое, может, самое в нем и шершавое от проступившей щетины, под скулой, и потом лбом… И он, кажется, понимает – или нет? Суховато целует в висок, в волосы ее, набирает опять, ждет. Медленные идут гудки, слышит она, неохотные; наконец отвечают, он говорит: «Привет, не поздно я?..» И разговор, в какой она не то что вслушивается, нет, ей не до того сейчас, а просто слышит, низкий его, с усталой хрипотцою, что ли, голос слушает: отсюда, откуда ж?.. Да, знаешь, дело. Ну, не дело, а… Дома как? Нормальная ненормальность – сложновато… не в кон? Да это я так, на всякий случай – случаев знаешь сколь? Знаешь. Он опять гладит, отводит за ухо стрижку ее, прижимает за плечо… не один? Почему ты решил? Да нет… Ну, еду тогда. Ладно. Одна? Есть, не суетись. Есть, говорю. Все, давай. Все.
Трубка повешена, она целует его, и благодарность скрыть, кажется, не удается – да и надо ли? А он горячей, требовательней, в шею, и она даже на цыпочки привстает, обнимая под курткой и чувствуя, как перекатываются под рубашкой плотные, с тонкою, наверное, кожей мышцы, всего чувствуя… слишком всего, и с тихим, с прерывистым смехом отстраняется бедрами, отталкивается и плечами вывертывается из рук его, все-таки и смущенная его желанием. Но кабинка тесна, руки сильные и не чужие, свои почти, она уже их знает немного и дает забрать всю себя, все, и казаться начинает, что падают они куда-то, обнявшись, или плывут с кабинкой этой вместе – мочой же пропахшей, лишь сейчас почему-то замечает она… Ее передергивает всю, возвращает; она усилие над собой делает – и над ним, отрывается, спиною выбирается на воздух, выводит его, не выпуская руки, и еще раз тянется губами к нему, к подбородку, уже колючему, в уголок губ, второй раз сама.
Он помнит, конечно же, что – пора, хватит; но ведь и в самом деле ему пора, ночь давно, перебрех собак в частном секторе умолк уже и всякие теперь скоты ходят на свободе, не то что фонарей – света дневного не боясь, а у него дело, какое оно ни есть. Она разглаживает кармашек на его груди, на куртке, взглядывает – нет, он все понимает, у него добрые совсем глаза, без прищура всякого сейчас, и она кивает ему: ага? Ага. А где он живет, этот… ну, Иван? Да? Так это ж по линии по одной – далеко, но все ж…
– Нехорошо у него там, неладно… – говорит он. И поясняет: – В семье. Да нет, ничего… я там вроде парламентера. Дурит она – а чего б еще надо ей? Посидим с Иваном, ночку отдай… Нет, я провожу.
Он смотрит, меряет глазами малосемейку; они поднимаются к ее двери, и слово, всего одно – «кофе?» – с совершенно непонятной себе самой интонацией произносится ею, голосом таким непослушным, что высечь бы его, голос… В ответ он опять тянет ее на себя за мягкие, она сама это чувствует, в его руках безвольные плечи, тискает ласково их как-то, говорит: «Нет, пойду…» – целует еще, бодает скулой и уходит – в самом деле уходит, оглянувшись на повороте из коридора и кивнув ей: жди…
Она отпирает дверь, входит – и посреди комнаты останавливается, не в силах что-либо думать, делать ли, оглядывается; и спешит к окну, к незашторенной его, в слепых отсветах темноте, зная сама, что ничего-то она там, на другой стороне, не увидит, кроме одинокого средь листвы фонаря в улочке и недвижно-бессонного, настороженного зарева над скопищем ближних и дальних мертвых огней города. Немного погодя с воем прокатил за углом неизвестно в какую сторону поздний троллейбус – успел? Должен успеть, остановка недалеко. Напряженно вслушивается, пытаясь определить, где остановился троллейбус; но тут, как назло, этажом или другим выше, в одной из дыр оконных пролетарского этого ковчега врубают на полную мощность магнитофон, и начинает хрипеть, глухо выть не забытый здесь еще Высоцкий.
Потерялась совсем девочка. Затерялась где-то между тоской ноябрьских выстуженных огородов с нетающим в бороздах снежком, слякотью небесной, в вечер переходящей, в вечность, гремящих пустых и плескающих коровьим пойлом тяжелых ведер, вечно сырых галош на грязном приступке заднего, во двор, крыльца – и оскорбительным равнодушием этих пустых огней, для чего-то другого засвеченных, не человеку, но чему-то преступившему уже все законы, нелюдскому кадящих синюшным своим призрачным светом, назначенным не осветить, но скрыть, растворить в призраках своих все, самого человека тоже – оставив от него лишь косую тень… И что так надрывается этот, над чем, волчьему подвывая в себе, в нас, в мертвенном этом недвижном зареве ночи?
Заело штору, приходится на стул вставать, на подоконник – и вся как нагая она под волчьи немигающим взглядом города, лишенного небес; вместо него, неба, муть какая-то, сизая от дневного смога взвесь, немота и хриплый этот, осатанелый, в ней полузадохнувшийся уже голос.
5
Она не знает, от чего проснулась – не от радости ли? Уже налиты тяжелым багряным жаром шторы, брызжет в их расходящуюся от сквозняка щель солнцем; и она на груди переворачивается – потяжелевшие, ей кажется, груди – и все теперь помнит, все… Даже то, что вчера как-то ускользнуло от ее внимания, запало в промежутки головокруженья того, странного же, сладкого, забытого почти… как за диван бигудишка какая-нибудь западает или заколка, потом только и найдешь.
Помнила, как в какой-то момент за шею обняла, повисла почти; как лицо его потом в ладони взяла, когда в плечо он целовал, – и как оно сильно, неукротимо двигалось в них, лицо, порывалось все ниже куда-то, все глубже в нее, вздрагивать и ежиться заставляя… Какое на ощупь плотное и сильное тело все у него, такая приятная под рукою плотность у благородного, тяжелого дерева бывает – у статуэтки африканской такая, Слава же и давал как-то подержать, готовиться мальчику… И руки его, когда владели всею, – мог же, но не позволил… совсем мало, вернее, но не в этом же дело, а в том – как. И телом всем вытягиваясь, руки под подушку запрятав, в прохладное, вспомнила, как отстраняться пришлось, и смешок вслух упустила – замираньем каким-то отозвавшийся в ней; и вдруг поняла, что не в комнате одной это сквознячок гуляет, жар ее сна наяву разгоняя, радость отвеивая и усмиряя, а в ней самой, что – боится…
Прибралась и, на миг какой-то поколебавшись, подняла спинку дивана, хотя этого-то обычно не делала. Коньяка оставалось больше полбутылки, она еще вчера мимолетно тому порадоваться успела, по-бабьи, не увлекается, вина и вовсе. И розы на столике, она уже присаживалась к ним, на минутку: отборные самые, свежие нашел…
Надо было в магазин, хлеба свежего ему, всего, что попадется подходящего и по карману, да еще и приготовить успеть, котлеты, может, фарш у нее есть, а уж десятый час. И на лестнице вспомнила: Слава… Вполне ведь может прийти, не в первый же раз, как она не подумала сразу, – позвонить, упредить.
В телефонную кабинку заскочив, огляделась: неужто здесь, Господи?! Ничего-то мы себе не выбираем, никого, все кто-то за нас. Нет, она и выбрала вроде – но кто и что может сказать ей наперед? «Кто может молвить „до свиданья“ чрез бездну двух или трех дней?..» – из книжечки маленькой у нее… из Тютчева? Лето, давно ничего не читала, а надо бы.
Никто там не отвечал, и было это странно даже, в такую-то для горожан субботнюю рань – собачку выгуливают, что ли? Собака считается Славиной, сказали – чистокровный французский бульдог, а выраженьем морды, прости Господи, скорее на маму чем-то смахивает; и она никогда ни за что не поймет, как можно не то что любить – а там любили ласки, сюсюкали, склоняясь, – но просто жить в одном помещении с этим омерзительным существом, кривоногим, злобноватым вдобавок… Опоздала; ну, еще раз попробует, от магазина, там автомат в тамбуре, не успели еще раскурочить.