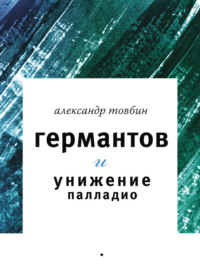
Германтов и унижение Палладио
– Что хуже-то могло быть, что? – искренне удивлялся Липа.
– Хуже – все муки ада на земле, не в воображении, а на земле, когда потусторонний ад уже заколочен за ненадобностью своей, понимаешь?
И – признания-воспоминания прерывались – бом-бом-бом; Липа, глянув на настенные часы, машинально достав из жилетки карманные и установив точное время, уже осторожно наливал в чайную ложечку драгоценную настойку из женьшеневого корня, её доставал где-то в аптечных верхах Сиверский.
Анюта верила в женьшень, как в чудо, хотя и на исходе жизненных сил сама собой оставалась; тоже глянув на настенные часы, не могла Липе не указать: не пори горячку, есть ещё пять минут.
И виновато улыбнулась:
– Так, Юрочка, и живу я, в час по чайной ложке.
Липа, затыкая пробочкой пузырёк с женьшеневым зельем, посмеивался, а она спрашивала:
– Чему смеяться? Соль не в шутках уже, в суставах.
Тут же Липа торопливо подносил ей воду, чтобы запила горечь, а Анюта для порядка ворчала: не гони в хвост и гриву.
За что ей, добрейшей и справедливейшей из всех добрых и справедливых, выпало столь жестокое наказание?
«Страданье есть способность тел…» – Германтов шевелил на губах поэтические слова и понимал, что слова эти буквально относились к Анюте: невообразимой способностью страдать отличалось её маленькое, почти неподвижное тело.
Её страданья, её борьба с неутихавшей болью и нежелание смириться со своей участью наделили тогда Юру хотя бы зачатками сострадания? Пожалуй, нет, скорее вызвало детское удивление.
Солевое изваяние с живой душой?
– Душа изголодалась, – пожаловалась как-то Анюта.
Какой же пищи не хватало ей для того, чтобы живой в своём безысходном состоянии оставаться?
– Раньше я по радио заслушивалась Яхонтовым, давно это было, давно, когда он ещё порционно «Бедных людей» читал. А потом читал он всё хуже, хуже – когда за агитки Маяковского взялся, как ни старался ясно и громко каждое слово выговорить, будто кашу жевал, чудный голос вконец испортился.
– Яхонтов манией преследования потом заболел, – напомнил Липа.
– Не только он, все нормальные люди заболевали.
– Но он не пожелал дрожать по ночам от страха, гостей с понятыми не стал дожидаться – в окно с седьмого этажа выбросился, разбился.
Кивнула.
– А Мару Барскую помнишь? Она тоже из окна выбросилась.
– Да, – обозначила кивок, – многие выбрасывались.
– Но для Мары при её жизнелюбии это было так странно, никогда бы не подумал, что она способна…
– De mortuis nil nisi bene, – как отрезала.
* * *Губы её не двигались, почти не двигались, хотя способны были выражать целую гамму чувств с помощью кислых, сладких или кисло-сладких улыбок. Если же к слабым, еле различимым её улыбкам добавить блеск и едва заметное скольжение зрачков по глазному яблоку… Под конец своих дней она лишь обречённо моргала и медленно-медленно поднимала или опускала выцветшие выпуклые глаза. В них, казалось, застыло накопленное за долгие годы изумление, она словно не могла насмотреться на выпавшую ей жизнь, а отдельные слова произносила затруднённо, с неимоверным усилием, жутко-скрипучим каким-то, будто бы замогильным, хотя и способным ещё слабо варьировать интонации голосом. И регулярно слушала «Музыкальную шкатулку» по радио. И просила, чтобы на патефоне проигрывали ей «Прощание Славянки» или старинные вальсы: «Амурские волны», «На сопках Маньчжурии» в исполнении духовых оркестров – когда-то давным-давно возвышенно-тревожные мелодии, звучавшие по воскресеньям в ботаническом саду на Бибиковском бульваре или в парках над днепровским обрывом, чаще всего в свежевыбеленной по весне, к каждому новому сезону, оркестровой раковине близ Аскольдовой могилы, там, где заросли махровой сирени, густые-густые, – тронули чувствительное сердце Анюты. Теперь они облегчали её страдания, хотя изумлённые глаза, сколько бы ни слушала любимые марши, вальсы, были на мокром месте; впрочем, удивительно сплавлялось в ней всё подлинное, всё лучшее, что было в старых и новых временах, и потому повторяла и повторяла она тихонько простенькие слова: «Киев бомбили, нам объявили, что началась война». И она замолкала в память о своём деде-раввине, мудрость которого, столетнего тогда, не смогла спасти его от Бабьего Яра. И вот уже она обращалась в слух. Военные песни Великой Отечественной и волновали до слёз, щемили сердце – «а до смерти четыре шага», – и умиротворяли; едва заслышав «вьётся в тесной печурке огонь» или «ночь коротка, спят облака», или «слетает жёлтый лист», просила добавить громкости радио, замирала в беспокойном блаженстве, ни одна морщинка на лице не могла шевельнуться; и шептала потом, шептала, будто эхо песни в ней затихало: «Старинный вальс, осенний сон…»
И тут сентиментальность в ней, твёрдой, непреклонной, пробуждала уже Шульженко: «В запылённой связке старых писем мне случайно встретилось одно, где строка, похожая на бисер, расплылась в лиловое пятно…»
И – растворявшая волнение тишина, и, казалось, безмятежный покой; если бы не раскачивания маятника, можно было б подумать, что время остановилось.
И тут же свежий воздух затекал в открытую форточку, трепетала голубая, в мелкий белый горошек, муслиновая занавеска… И опять с блаженной улыбкой слушала она чириканье воробьёв, гуление голубей.
Но трамвай трезвонил, раздражающе скрежетал на повороте колёсами.
Бом-бом-бом – напоминали о себе часы, замолкали, а Липа машинально доставал из кармашка жилетки свои, швейцарские… А Анюта саркастически вопрошала:
– Ты куда-то спешишь?
И вдруг птица задевала крылом стекло, и стекло дрожало, дрожало, как струна контрабаса, и Анюта радостно вздрагивала…
И хлопала, будто пушка выстреливала поблизости от неё, у самого её уха, дверь от сквозняка, и опять радостно вздрагивала Анюта… Её страдания облегчались естественными голосами природы, высвобождавшей вдруг внутреннюю свою энергию; небо вздыхает, как-то прошептала; когда случался порыв ветра и доносился шелест листвы, когда шумно и весело, с ускоряющейся барабанной дробью крупных первых капель по жести проливался дождь, она внимательно смотрела, как подпрыгивали, перед тем, как рассыпаться в серебряную пыль, капли, а омертвевшие губы её трогала едва заметная и какая-то отрешённая, словно отслоившаяся от её эмоций улыбка… А как мечтательно вслушивалась она в завывания вьюги.
* * *Юра, однако, запомнил Анюту и тогда, когда она ещё в состоянии была не только слушать грустные лирические песни войны и потерянно улыбаться звукам ушедшей жизни, но и отправиться погулять – если благосклонно сопутствовали ей, как говорила она, биоритмы. Анюту с Юрой не могли испугать промозглые туманы, сырые липкие снегопады, морозы с обжигающим ветром; гуляли поблизости и – тьфу-тьфу, тьфу-тьфу – добирались на пределе сил её до вокзала и медленно-медленно брели обратно. Выходили, Анюта здоровалась с Русланом, кадыкастым дворником-татарином в демисезонном ватнике и просторных штанах, заправленных в высокие кирзовые сапоги; когда выходили, неутомимый Руслан мёл тротуар, или соскребал с тротуара фанерной лопатой снег, или сбивал ломом наледь. Иногда у дома, поближе к арке подворотни, чтобы невыгодно не контрастировать с большими зеркальными витринами гастронома, причаливала двухколёсная тачка инвалида-старьёвщика – этакий похожий на детскую песочницу ящик с высокими бортами из выкрашенных небрежно досок. В ящик сбрасывали всякую рухлядь: помятые, словно выстоявшие во многих боях доспехи рыцарей-крестоносцев, медные, с перфорациями, футляры большущих керосиновых ламп, заплывшие копотью проклятого прошлого канделябры-подсвечники с чудесно сохранившимися желтоватыми огарками толстых свечей… «Сколько свидетельств затаилось в каждом предмете, сколько свидетельств, рухлядь, а свидетельства – на вес золота», – вздыхала Анюта. И старую одежду, какие-то сюртуки с галунами, протёртые зипуны и пиджаки с жалкой бахромою на рукавах, засаленные парчовые платья и сказочно шикарные дырявые шляпы тоже сбрасывали в тачку, за что-то даже старьёвщик расплачивался какой-то мелочью, а что-то тут же за такую же мелочь продавал, и, не умолкая, выкрикивал: «Шурум-бурум, шурум-бурум», а Юра с Анютой, называвшей эту уличную куплю-продажу «универмагом шурум-бурум», посмеивавшейся и головкой покачивавшей – универмаг к дому подвезли, не надо на толкучку за барахлом переться, – стояли и ждали, пока медлительный красный трамвай свершит свой эпический поворот со Звенигородской улицы на Загородный проспект или – с Загородного на Звенигородскую… Иногда дуга с сухим потрескиванием зеленовато искрила, бывало, что и из-под колёс, натужно, всем весом вагонов на повороте надавливавших на рельсы, вылетали искры, но вот, мотнув тяжёлым гранёным, с обрубком железной колбасы, задом, громоздкий трамвай-американка, казалось, с облегчением покатил…
Запомнилась Юре и вспышка Анютиной активности, разумеется, активности через силу, что называется, на излёте дыхания, которая пришлась на последний при её жизни Пурим. Упрямица Анюта, несгибаемая, увы, не только в переносном, но уже и в прямом смысле слова, назло болезни своей многое помнила, очень многое, в том числе исторические подоплёки мифов, сроки и ритуалы еврейских праздников.
– Отмечая Пурим, – тихонечко приговаривала Анюта, – даже трезвенники должны напиваться так, чтобы не узнавать себя в зеркале.
К сожалению, питейная удаль уже была не по ней, не по ней, она лишь, потешно вздыхая и облизывая губы, посматривала на застеклённую полку стеллажа; на ней сияли два венецианских, синих-синих, с острова Мурано, бокала на тонких высоких ножках, когда-то подаренные ко дню свадьбы Анюты и Липы Соней. Однако, доказывая и самой себе, и Липе с Юрой, что пока что не только жива, но и деятельна вполне, что Пурим будет встречен достойно, Анюта надевала беленький, чистенький и отутюженный фартучек с оборочками-фестончиками и, будто и не делала она что-то реальное, а подбирала в сомнениях нужные для выразительного доказательства своей живучести позу и самые технологические для этой позы движения, мучительно-медленно, но непреклонно крошила в эмалированную мисочку непослушными испачканными мукой пальцами подсушенные заранее дрожжи и ставила затем в тепло, накрыв льняным кухонным полотенцем, тесто, чтобы испечь через час-полтора, когда тесто взойдёт, вздуется, как пуховая подушка, треугольные, оранжево-золотистые, перед загрузкой в духовку смазанные топлёным маслом, словно отглянцованные – с духовкою, подчиняясь её командам, управлялся Липа, – пирожки со сладким-сладким маком и толчёными грецкими орехами; испечённые, ещё горячие пирожки с гимназической прилежностью присыпались ею из маленького кругленького сита сахарной пудрой.
– Что же, прикажете сдаваться и поднимать лапки кверху? – еле шевеля губами, шёпотом спрашивала она; и в самом вопросе содержался ответ непокорного её духа.
Нет, только не сдаваться.
И шептала, исключительно для себя, на сеансе самовнушения: тьфу-тьфу, не так-то легко меня сковырнуть!
И во всём, что рядом с ней происходит, что мимо проносится ли, звучит, что заботит и донимает, желала принимать посильное участие… С каким напряжением следила за Липой, когда он, стоя на кровати и покачиваясь-подёргиваясь, ибо сетчатый матрас пружинил, заводил настенные часы, как сочувствовала Липе, помогая ему надеть защитную марлевую или слепленную из бинтов маску, когда тот принимался морить клопов и с маленькой оранжевой детской клизмой, кряхтя, ползал на коленях по полу, заливал в щель между стеной и плинтусом вонючий яд.
А как внимательно, затаив дыхание, следила Анюта за священнодействиями старательного и сосредоточенного Липы, когда близилась зима и наставала пора заклеивать окно, как шептала-подбадривала – всё получится, не боги обжигают горшки, как помогала ему советами!
Нарезалась на широкие полоски белая бумага, в миске разводился клейстер из тёмной, самой дешёвой муки, а меж оконными рамами засыпалась крупная зернистая соль – отдельные солевые кристаллики внезапно резко отблескивали, иногда даже в блеске их поймать удавалось радужное сияние. Соль засыпалась, чтобы стёкла потом сильно не запотевали. Соль накрывали газетами, на них зимой, за кружевами белёсо-серебристых папоротников, которые, проигнорировав воздействие соли на влагу, разрисовал мороз, обнаруживались тонувшие в пыли дохлые мухи. Германтов, кстати, выучившись грамоте, принимался, клоня голову, читать сквозь стекло заголовки на тех газетах. Для чтения требовалась известная сообразительность, даже изворотливость ума, ибо слова вполне могли быть перевёрнуты, вроде как вверх ногами, начало или окончание заголовков, случалось, не было видно, заголовки требовалось, добавляя недостающие буквы, разгадывать – получалась необычная игра в слова с самим собой, что-то вроде разгадывания произвольно разорванных на строчки фрагментарных кроссвордов. К тому же рваные кроссворды смешно дополнялись случайными фрагментами газетных, произвольно согнутых фото, например вырезанными из лица двойным сгибом газеты ноздрями и густой щёточкой усов Молотова. Между тем, убрав под надзором Анюты со всеми мыслимыми предосторожностями, чтобы не дай-то бог не разбить горшки и не уколоться кактусами, растения с подоконника, раздвинув – налево и направо – невесомую воздушно-голубую занавеску, проверив, вставил ли в гнёзда, повернул ли до упора все шпингалеты, Липа уже старательно окунал в клейстер щетинную кисть-флейц, старательно намазывал первую полоску… И вот он – в старом-престаром засаленном пиджачке и коричневых байковых домашних штанах – уже взгромоздился на стул, балансируя, потянулся с бумажной, намазанной клейстером полоской в широко разведённых руках к верхней горизонтальной щели между рамой и створкой…
До сих пор балансирует тот неловкий тощий силуэт на фоне окна.
– Только не упади, только не упади, – шепчет молитву свою Анюта. И в ужасе замечает, что акробатничает Липа на поломанном стуле. – Час от часу не легче! – У одного из стульев с незапамятных времён выпадала из гнезда-паза ножка, но никак стул было не починить, никак, Анюта не выносила запаха столярного клея, а Липа, хорош, залез как раз на тот поломанный стул, думал наверняка о своих расчётах и формулах.
Намокшие потемневшие полоски бумаги по контуру окна, прежде чем высохнуть, кое-где вздуваются волдырями.
И вдруг Анюта спрашивает с робкой улыбкой:
– Юрочка, можно я тебя поглажу по голове?
Вспомнила, наверное, Изю и – погладила.
Германтов сейчас, как и тогда, давным-давно, втянул ноздрями слабый аромат ромашкового мыла.
Что это, тоже самовнушение?
Брезгливая Анюта явно побаивалась старческого предсмертного запашка, верного признака внутреннего распада… Да, да, на излёте жизненных сил гнетуще-отвратительно пахнет старость, ещё не умершее, но сдавшееся болезни тело от обречённости своей заранее начинает смердить… Германтов втянул ноздрями воздух. К флюидам тревоги, сгущавшейся в атмосфере спальни, действительно, подмешивался аромат ромашкового мыла, того, давнего… лежал, вдыхал. И заодно с запахом мыла вдыхал натуральный запах полевых ромашек – скромный букетик Липа непременно покупал у какой-нибудь бабульки, когда покидал Кузнечный рынок.
К запаху ромашек подмешивался ещё и запах лесной земляники…
Ну да, выложив на газету из большой авоськи овощи, как правило, молодую картошку, морковку, стебли ревеня, огурцы и ещё не созревшие, розовато-зелёные помидоры, которые будут дозревать два-три дня на солнечном подоконнике, показывал в торжественно поднятой руке избранную морковку с раскудрявым хвостом, особенно красивый, в пупырышках, огурец и самый большой фигуристый помидор – показывал Анюте для одобрительного кивка, после которого, впрочем, Анюта, расчехвостив нынешние рынки за скудный ассортимент и дороговизну, обязательно вспоминала с красочными подробностями фруктово-овощное изобилие на киевском Бессарабском рынке: горки отборного, без пятнышка червоточинки, белого налива, помидоры «с морозом»; а однажды её совсем уж недавние времена накрыли, озорно повернулась к Липе: «Помнишь? Огурчики, помидорчики, Сталин Кирова пришил в коридорчике…» Возвращение с Кузнечного рынка выливалось в немой спектакль двух сыгравшихся актёров – достав затем, после демонстрации овощей, из второй, маленькой авоськи, свёрнутый из листка разлинованной школьной тетрадки конус-кулёк с земляникой, высыпав землянику в глубокую тарелку, Липа наливал в литровую банку воду, подравнивая, укорачивал кухонным ножом стебли ромашек и – в завершение спектакля, – подвинув пузырьки с микстурами, ставил банку с букетиком на тумбочку, рядом с изголовьем кровати.
* * *Очевидно, Анюта, командуя выпечкой пирожков с маком, заклейкой окон или, к примеру, мысленно воспроизводя все упражнения утренней радиогимнастики, восстанавливала также в мечтах о выздоровлении или хотя бы притуплении боли свою прошлую двигательную активность, для того восстанавливала, чтобы унизить болезнь – вот какой я была, я, неугомонная озорница, всё могла, всё-всё умела.
– Я всё время оглядываюсь, – вздохнула как-то Анюта, – всё время; не за эти ли оглядки я превратилась в соляной столб?
А как быстро бегала она, играя в лапту, как ловко каталась на коньках – и на снегурочках с округло, на манер кренделя, загнутыми носками, и на коньках-роликах, а как прыгала, как ныряла и плавала в Днепре и Десне…
Но, вспоминая, не зацикливалась на спортивных подвигах.
Как-то с тоской сказала:
– Есть древнеримская мудрость: если ты не хочешь чего-то бояться, знай, что бояться можно всего. Но теперь-то римские высокие объяснения мне как мёртвому припарка: для меня все смыслы перевернулись, я уже на самом деле всего боюсь, всего – боюсь поскользнуться, оступиться, споткнуться… Знаю, Юрочка, если не дни, то месяцы мои сочтены, а всё равно боюсь упасть в грязь лицом в прямом и переносном смысле, боюсь, понимаешь?
Остановились, ей захотелось прислушаться к биоритмам. И – обрести с их помощью второе дыхание.
Под непослушными ногами – снежная каша, а она любовалась колыханием на ветру цветущих акаций, её накрывали тёплые волны сладковатого духа… О, она частенько переносилась в Киев своего детства, омрачённого, конечно, не будем забывать истории, годами реакции, средневековыми ужасами кишинёвского погрома, подлыми преследованиями Бейлиса, но всё равно беззаботно-светлого, такого светлого и прозрачного детства, обещавшего светлую и прозрачную, как голубые дали за Днепром, если смотреть туда, за Днепр, с Владимирской горки, юность, вспоминала увлечение стихами Надсона и строчки любимого ею поэта тут же зачитывала наизусть вслух, чаще всего выспренние и абстрактно-смутные строчки, символизировавшие теперь, по мнению Анюты, роковую невозвратную потерю всего, что выпало ей в прошлой, дореволюционной жизни, потерю надежд на счастье. «Есть страданья ужасней, чем пытка сама, – читала с нажимом-пережимом, как школьница, – это муки бессонных ночей, муки сильных, но тщетных порывов… на свободу из тяжких цепей…»
Продекламировав и, похоже, испытав облегчение – говорила, что оглядки-воспоминания для неё как обезболивающие уколы, – вспоминала дачу в Боярке, белые грибы в сосновом бору… Или вспоминала учителей и подруг по знаменитой женской гимназии на Фундуклеевской улице, где даже зубрёжка латыни ей была в радость, где она, первая ученица, была на выпускном акте награждена медалью. Вспоминала кондитерскую с пышными на вид, сладко-рассыпчатыми и слегка вязнувшими в зубах безе, вспоминались ей и бутылочки с соком, зельтерской и даже вкус ванильного мороженого в вафельном стаканчике, прибаутки мороженщика, торговавшего под большущим каштаном… И уже пила она впервые в жизни «Токай», сладкий, нежный «Токай», танцевала на последнем своём гимназическом балу до упада, и уже высоко-высоко, до неба, взлетали качели, и увидеть сверху можно было гладь Днепра, Труханов остров, чуть правее – Лавру, зелень садов: золотые денёчки! И сразу же она возвращалась в Петербург, встречалась с Липой, но не спешила отвечать на вспыхнувшее у него чувство, не спешила расставаться с текущими увлечениями. Я, – неизменно предупреждала слушателей Анюта, – была разборчивая невеста, очень разборчивая, хотя и не так уж долго Липу за нос водила, он того не заслуживал, нет, уж точно не был он вертопрахом, напротив, смущал какое-то время чрезмерной своей серьёзностью и даже в статусе жениха ни разу не распетушился. Сердце не камень, сердце не камень, – выразительно вздыхала и шептала с улыбочкой: – Как хороши, как свежи были розы, и, – сыграв счастливое смущение, признавалась: – Поехали в Павловск на концерт, потом в белой ночи, одурманенные черёмухой, гуляли по парку, на каменном мостике у Пиль-башни я приняла Липино предложение, – и уже рубила воздух указующе-направлявшим ребром ладошки, и уезжали молодожёны с Варшавского вокзала в свадебное путешествие в Вену, Прагу, Берлин. – Все меблированные комнаты и номера в гостиницах, где останавливались, были пышными напоказ, но, по правде сказать, убого одинаковыми, будто б обставляли их под копирку, хотя цены за постой в этой сомнительной роскоши заламывались немилосердные, – не мог без улыбки вспоминать нахмуренную Анюту. – Я грезила раем в шалаше, и на тебе: засиженные мухами зеркала, бархатные драпировки альковов, из которых позабыли выбить столетнюю пыль, слежавшиеся перины, под ними вовсе не горошины заждались проверки на благородство крови сказочных заезжих принцесс, нет, Юрочка, под ними, псевдоперинами теми, поверь, пролетарские лежали булыжники.
А затем – в Париж, в Париж, куда же ещё?
Разумеется, в Париж, где проживала в те годы её сестра Соня, вышедшая замуж за какого-то богача, но при этом – никак не угадать заранее, с кем найдёшь, с кем потеряешь, пожимала плечиками Анюта – видного французского, хотя и с русскими корнями, бородатого социалиста, сподвижника и друга Жореса, друга ещё каких-то социалистических шишек, видных неуёмных борцов за свободу масс.
– Как вам это понравится? – спрашивала Анюта, показывая фото внушительного бородача на фоне тяжёлого письменного стола с антикварным чернильным прибором и… бюстиком Наполеона. – Как вам понравится? Ни в какие ворота – борец за свободу как почитатель императора. Высокообразованный, окружённый шкафами со старинными книгами в тиснёной коже Леон, сидя на куче золота, обедая исключительно на лиможском фарфоре, потягивая fine-shampagne из пузатой рюмки тончайшего богемского стекла, и, – заметьте – поклоняясь гению Наполеона, призывал бедных и угнетённых силой отнять у него самого богатства и поровну поделить всё между собой, хотя сам наш передовой и состоятельный monsieur социалист скупым был, как Гарпагон, сам он ни сантима бы не пустил на ветер, ничто, ничто, кроме пролетарской костляво-загребущей руки, не понудило бы его порастрясти мошну. У него, свободного и просвещённого, всё только силой голодных и угнетённых рабов можно было бы отнять, понимаете?
Впрочем, зла на него она не держала – Сониного мужа-социалиста Анюта всего лишь не жаловала за фанатизм, в своих устных мемуарах уделяла мало внимания ему и его революционной борьбе, ибо слишком давно на него махнула рукой, давно поняла, что ему аукнется свободолюбивое словоблудие, когда решится он воплотить чересчур красивые мечты в пустопорожнее народническое дело. – Её прогнозы сбудутся: за фанатичную идейную борьбу с ним заслуженно и сполна расплатятся жестокие советские единоверцы. Зато без устали Анюта пересказывала популярные парижские истории и легенды давно минувшего блестящего века, пересказывала, разумеется, с чужих слов, ибо приехала в Париж спустя несколько десятилетий и ухватила лишь завистливо расцвеченный хвост тех историй и тех легенд, но пересказывала так выразительно и страстно, будто сама она режиссировала апокалипсическую картину падения огромной, переливавшейся хрустальным сиянием люстры в новой, только-только отстроенной и торжественно открытой для публики опере – падения в премьерной кульминации «Фауста», как раз под громовой хохот Мефистофеля; чудо из чудес, огромадно-пышнейшая, изукрашенная, как подарочный торт с избыточным кремом, – не находила слов поточнее Анюта, не знала с чем ещё можно сравнить то, что увидела внутри декоративно-лепного и щедро раззолоченного шедевра. Ну а падение люстры взбудоражило всегда алчущий новизны Париж посильнее, чем наркотические стихи Бодлера, все, вместе взятые, романы Бальзака, Золя и Мопассана, возведение Эйфелевой башни, дело Дрейфуса, изгнание конных пруссаков в остроконечных касках, победа и поражение Парижской коммуны или так потешившие оравы газетчиков и зевак громкие скандалы с обязательным битьём витрин на выставках импрессионистов; падение люстры на долгие годы врезалось в коллективную парижскую память.
– Я, – самокритично сообщала Анюта, – когда люстра грохнулась и хрустальные осколки во все стороны разлетелись, там со свечкою не стояла, я ещё – вообразите такое! – даже не родилась и никак не смогла бы поспеть к трам-тарараму тому, но с открытым ртом, как набитая дура, на ту исправно-великолепную и заново подвешенную, заново переливчато засверкавшую люстру потом пялилась всё представление, придя на «Аиду», вместо того чтобы на сцену поглядывать, следить за постановкой и действием, наслаждаться музыкой Верди…

