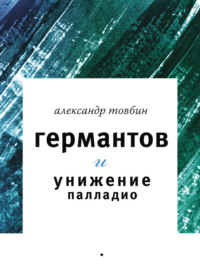
Германтов и унижение Палладио
И он, словно в благодарность за это приволье, никого не отвлекал вопросами, капризами, шумными играми… Он никому из домашних не надоедал, никому не доставлял неприятностей, не давал и поводов для естественного материнского беспокойства – ни кори, ни ветрянки, ни скарлатины; он не простужался даже, не помнил, чтобы ему когда-то ставили градусник…
Он не знал отца, почти не знал мать…
Да, отец исчез до его рождения, на нет и суда нет, а вот мама никуда не исчезала, а он только видел её, да и то изредка и как бы бесконтактно, со стороны – видел и старался запомнить плавные движения, поворот красивой головы; и слышал, конечно, как она пела. Когда она последний раз пела дома? Пожалуй, на встрече Нового года, да, да – на встрече тысяча девятьсот пятидесятого года, отмечали середину века… Или всё же это была встреча другого Нового года, попозже? И был он, соответственно, старше? Не проверить, по малости лет он вполне мог что-то с датировкою перепутать, а больше никого из тех, кто звенел в ту ночь бокалами, уже нет в живых. Но что точно, то точно: тогда ли, позже, но приехали гости из Львова, дальние родственники, Александр Осипович Гервольский с женой Шурочкой. Они за полчаса до боя курантов и гимна, мощно исполненного Краснознамённым ансамблем и немецким трофейным радиоприёмником, вернулись из театра имени Пушкина, из бывшей – и нынешней – Александринки, где давали не что-то легкомысленное, как полагалось бы по стандартам репертуара под Новый год, не какую-нибудь там затхлую костюмную комедию положений с переодеваниями, пощёчинами и сочными поцелуями, а премьеру «Живого трупа»; жарко обсуждали игру Симонова – Феди Протасова, и Лебзак – цыганки Маши. Сверкала нарядная ёлка, сверкал бутылками и баккара стол. Сиверский, искромётно-весёлый громовержец и по совместительству – тамада, произносил басовито-баритонные тосты-пожелания; бабахая пробками, пили замороженное шампанское, потом «Столичную» водку и «Цинандали»… Вдруг – звонок, явилась заснеженная Оля Лебзак собственной персоной, с гитарой и слегка уже захмелевшая в другой компании, у друзей-артистов, пировавших неподалёку, на Бородинке. О, восхищённо зааплодировать стоило сразу, едва Оля в перспективе коридора, небрежно тряхнув плечами, превратила снежинки в капли, скинула котиковую шубку на руки Сиверского! Фантастичный новогодний сюрприз для четы Гервольских, им подарили продолжение потрясающего спектакля. Однако Оля – в белой блузке, коричневом расстёгнутом жакетике и удлинённой болотно-зелёной юбке со смелым разрезом – сошла со сцены академического театра не только для заезжих гостей, но и для десятилетнего – о нём, на счастье, все позабыли, не отправили спать – Юры Германтова; не исключено, что и вообще для него одного сошла. Как она там, на сцене, покоряла и с ума сводила Федю Протасова, Германтов не знал, но он, видевший Олю раньше лишь мельком, теперь никак не мог уже уберечься от её манящей и опьяняющей близости, от неё, такой распутно-живой, горячей, нервно и будто бы обречённо откидывающей с бледного чела волнистую прядь тёмно-каштановых волос, от её серых, гипнотично-порочных, брызжущих запретными желаниями глаз и вкрадчиво-развязных движений; как остро, пряно пахли её духи… Оля жадно отпивала из большой запотевшей рюмки водку – кто ей на тарелку от избытка чувств подкладывал буженину? – и что-то, чудесно подзаряжаясь огненными глотками, с надрывной, но и с приглушённой при этом, как бы загнанной вовнутрь горечью плакальщицы, заранее оплакивавшей скорую собственную погибель, пела хриплым низким голосом, аккомпанируя себе на гитаре. У неё был, пока пела, прожигающий и при этом влажно-замутнённый какой-то, словно горючими слезами размытый взгляд… И как же он, потрясённый звучащим зрелищем и своим живым участием в нём, судорогой насквозь пробитый, не способный к простейшим умозаключениям, её полюбил, сразу и навсегда полюбил, испытав первый на своём веку и потому ошеломительный прилив эротизма. Голова закружилась, знакомые лица понеслись по кругу, как если бы все родичи и гости расселись не за столом, а на быстро-быстро крутящейся карусели; к тому же незаметно для себя и гостей сделал несколько больших глотков «Цинандали»; под каждый тост Сиверский с шутовскими гримасами делал глубокий вдох и салютовал – выдувал-выстреливал из какой-то трубочки свой салют; из пневматических залпов рождались ярко-рассыпчатые облака конфетти, и мигали-перемигивались разноцветные лампочки, мерцали, зеркалисто бликовали стеклянные ёлочные шары, пики, гирлянды золотого и серебряного дождя, да ещё кто-то из гостей слепил фотовспышками. За волной чувственности накрыла и – будто ещё и острое что-то пронзило сердце – зрительно-звуковая волна, тут же, на глазах, в вибрациях барабанных перепонок рождавшегося искусства. Как пела она, как пела; дорогой длинною, да ночкой лунною… Да, опять-таки впервые на своём коротком пока веку ощутил он, что две стихии – любви-страсти и искусства сливались в Оле, в её затуманенном взоре, дрожащем на грани срыва, но необъяснимо плывучем голосе, нервных движениях рук и плеч. Она, собственно, и была воплощением-олицетворением их, этих стихий, и обе эти стихии, слившись в одну, олицетворённую ею, теперь и его захлёстывали, он тонул, чувствовал, что тонул, пускал пузыри… Бывают ли настоящие цыганки с серыми глазами? – не мог не подумать Германтов, вспомнив о повадках вокзальных черноглазых гадалок, и тут цыганский романс вместе с Олей, в два голоса, но в отличие от Оли – без надрыва, а протяжно, будто б с долгой измучивавшей болью, исторгавшейся из неё, так что боль ту не оставалось сил сдерживать, запела мама, и, казалось, на длинной дороге в лунной ночи он услышал звон колокольчиков; очищая мандарин, уже не мог понять, кого он любит сильнее – Олю Лебзак или маму?
И потом мама пела одна.
Нет, не глаза твои увижу в час разлуки, не голос твой услышу в тишине…
Захмелевшая Оля обняла маму, прижала к себе, мама, стряхнув с глянцевитых волос конфетти, запела: гори, гори, моя звезда… Потом – мелькали образы далёких чудных стран… Потом – моё признанье вы забыли… Потом – но вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня… Потом – только раз бывает в жизни встреча, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется… Как обострённо он воспринимал всё в ту ночь, всё, что видел, слышал, недаром всё-всё, взгляды, жесты, интонации, сохранила память; тост, новый цветистый залп конфетти, и – я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю, в душе моей обиды нет… И – слёзы подступая, льются через край… И – я помню вальса звук прелестный, а потом – твои глаза зелёные, уста твои обманные… – А потом, потом, что же запела она потом? Снился мне сад в подвенечном уборе? Да. А потом ей дали передохнуть, слушали Козина – веселья час и боль разлуки готов делить с тобой всегда… Пусть осень у дверей, я это твёрдо знаю, слова любви сто раз я повторю… Не уходи-и-и, тебя я умоляю… Дружно, но нестройно и мучительно-радостно, кто в лес, а кто по дрова, подтягивали. Мама редко пела на домашних застольях, возможно, берегла голосовые связки, а когда, подвыпив, распевались безголосые гости, посматривала на них со скорбным видом – так, наверное, строгая экзаменаторша в консерватории посматривает на бездарных вокалистов-абитуриентов; да, береглась, побаивалась, что грозит ей искажение тембров и появление комков в горле, которые не прокашлять. С голосовыми связками её, последовательно ослабевавшими от звуковой вибрации из-за постоянно возраставшей репертуарной нагрузки, немало и, увы, безуспешно вскоре провозятся лучшие ларингологи и светилы-фониатры – не помогут ей специальные ингаляции, парафиновые компрессы… Но тогда форсированное чувственное пение Оли, очевидно, и маму разбередило, она рискнула запеть в полную силу и уже не смогла остановиться. Он, не отводя глаз, следил за её открытым подвижным ртом, за волнующе менявшим контуры тёмным, с розоватым блеском нёба, провалом рта, обведённым ярко накрашенными, гибкими такими, выпуклыми губами. И как же дрожали звуки там, в таинственной коралловой глубине провала, в глубине горла, где, чудилось ему, перекатывались, ударяясь слегка друг о дружку, мелкие-мелкие, звонкие, как колокольчики, камушки, и тут же различимые на слух дрожь и слабые колебания отдельных звуков образовывали мощный и нежный, обогащённый своими тембрами у каждого звука, но сплошной неудержимый поток; а мама пела, пела: утро туманное, утро седое… Немели кончики пальцев, сердце сжималось от предчувствия огромной жгуче-счастливой и – непременно – горестной, с потерями и слезами, жизни, поджидавшей его: глядя задумчиво в небо широкое, вспомнишь ли лица, давно позабытые… И как же к лицу ей было светло-голубое платье с круглым вырезом на вздымавшейся груди, сшитое из парашютного шёлка! Вот она, рядышком, поющая и живая, повезло: обычно мамино пение неслось, заполняя волнующей игрой звуков комнату, с патефонной пластинки, угольно-чёрной, поблескивавшей при вращении хрупкого круга, а сама мама, живая, но какая-то отрешённая, расставляла на столе тарелки, фужеры… И вдруг чистой синевой вспыхивали её глаза.
– Синеокая, – сказал кто-то из гостей и предложил маме псевдоним, как бы совмещая комплимент с шуткой: – Лариса Синеокая, бесподобно!
– Для исполнительницы романсов – прекрасно звучит, – не совсем тактично поддержал другой гость, – особенно если шаль накинуть и усиливать жестокие романсы мимансом цыганщины.
Заметил, как у мамы дрогнула жилка на сильной стройной шее, качнулись финифтяные бусы. Мама округлым плечом повела, давая понять, что ей ближе серьёзный репертуар… но и впрямь была она синеокой – «смотрела синими брызгами».
С тех пор и Сиверский, обнимая её на людях, ласково глядя на неё сверху вниз, говорил:
– Синеокая ты моя.
А Германтов ревновал.
Как объяснить? Он и маму, и Сиверского любил, но всё равно ревновал маму к Сиверскому.
И – мучился, как мучился он, даже при нудном обсуждении гостями «вагнеровских» и «вердиевских» признаков в голосах певцов. Да и как было ему не мучиться, не ревновать, если Сиверский маму всё ещё обнимал за плечи? Мама словно и тогда отсутствовала, когда сидела за столом рядом с ним; Германтову ситуативной близости её не хватало, он хотел, страстно хотел, чтобы она оставалась с ним, только с ним, всегда, но он стеснялся этого страстного своего желания, своей любви, и как мог своё стеснение скрывал, словно побаивался того, что об этом, наверное, неисполнимом желании и о безответной его любви к маме узнают другие.
Какая она была, какая?
В чуть полноватой стати её, в посадке и поворотах головы, в повадках и характере неторопливых движений было что-то от кустодиевских красавиц. Но в памяти лишь сохранился абстрактный образ: без зацепляющих навсегда словечек, улыбок, жестов… без запахов.
Мама даже тогда отсутствовала, когда вдруг гладила по волосам и целовала его, подкидыша, словно возвращала себе навсегда сына, прижималась на миг щекой к щеке, и его пробивала дрожь.
Думала не о сыне, о сцене?
И, отсутствуя, когда бывала дома, присутствовала там – в театре, на гастролях, в студии звукозаписи.
Но почему-то и в свой театр она сына не приводила. Не поверите, он так и не услышал, как она пела в опере, со сцены, прижимая ладонь к сердцу или, словно помогая высвобождению звуков, прижимая обе руки к вздымающейся груди, прохаживаясь меж пышно изукрашенными фанерными декорациями дворцовых зал; да и раз всего он побывал на утреннике в Мариинке, причём не на оперном спектакле, а на балете, как было принято, на «Щелкунчике»; сидел – в кассе ждала именная контрамарка – в первом, литерном ряду, утонув в зеленоватом плюшевом кресле; со сцены, такой близкой и по причине приближённости своей вовсе не сказочной, хотя на ней танцевали пыльные фетровые мыши, несло тошнотворно-сладкой смесью пота и пудры.
* * *Германтов с детства, от рождения, был обречён на одиночество.
Впрочем, об участи своей он задумался лишь через много лет.
* * *По смутной ассоциации Германтов, когда шествовал по Невскому мимо костёла Святой Екатерины – перед барочным фасадом отступившего в курдонёр костёла разбивали свой неряшливый табор уличные художники, – непременно вспоминал об отце. Ярмарочно-коммерческий табор – между стендами с торопливыми живописно-графическими поделками повадились к тому же сновать на роликах нагловато лихие парни в приспущенных на задницах камуфляжных штанах и долговязые девицы в наколенниках, с голыми животами, с кольцами в пупках – мешал, конечно, самоуглублённым раздумьям, но с годами Германтов вспоминал об отце всё чаще, словно именно здесь, близ костёла, чувствовал вдруг свою вину за судьбу отца, за его гибельные прихоти и отчаянное опасное легкомыслие; думал неотвязно на солнечном Невском о суровой, рискованно-счастливой отцовской молодости, невольно сравнивал со своей пресноватой молодостью – ничего общего; а уж как хотел представить себе зрелость, старость отца, представить его во временах, до которых он не дожил.
Да, был период, когда неотвязно думал он об отце.
И, само собой, там же, на Невском, проходя мимо костёла Святой Екатерины, внешне невозмутимый Юрий Михайлович с замиранием сердца спрашивал себя раз за разом: а что бы сказал отец, если бы чудом выпало ему прочесть книги сына…
И даже когда боль ослабела, сейчас, ранним утром, тоже почему-то вспоминалось всё то немногое, что за долгие годы узнал об отце с чужих слов. О, он многократно – и сейчас тоже – пытался сложить из случайных деталей портрет, хотя бы пунктиром прочертить жизненный путь.
Хм, он человек был в полном смысле слова…
Так ли?
Поди-ка разберись.
Загадочный, будто бы бесплотный и бесплодный отец-литератор, наверное, дилетант-литератор. Повеса, бессребреник, весельчак, остряк и выпивоха, душа компаний, но, знаете ли, без царя в голове, – бывало, говаривали о нём. Кто, кто, без царя в голове, переспрашивали. Миша Германтов? А-а-а… А что с ним перед финской войной стряслось, не знаете? Что? Сразу после финской войны? Ну и зима была, бр-р-р. Подождите, когда его взяли, с Лившицем? Нет? Беню раньше взяли? А Заболоцкого – позже? А-а-а, Беню – тогда же, в тридцать седьмом, когда брали Стенича, Юркуна? Действительно, смутно припоминаю… Им террористическую организацию безо всякого дознания припаяли. Но когда же всё-таки взяли Мишу, и по какому он-то проходил делу?
Бывает ли судьба у фантома – вот в чём вопрос.
Михаил Вацлович был, похоже, вполне легендарной фигурой в беспутной своей среде, но – вздыхали – не успел раскрыться; хотя, по правде сказать, судьба Михаила Вацловича словно боялась фактов, лишь фрагментарно и как-то абстрактно отражала ходячие легенды, которые заслуженно сопровождали по жизни и уж само собой после смерти его избранных славой друзей-приятелей-знакомых, отчаянных, нервных, эксцентричных и то анемичных, то искусственно-возбуждённых творцов и жертв начинённой абсурдом и страхом – пожалуй, и вообще бредоносной – атмосферы Ленинграда двадцатых-тридцатых годов. Творцов, стоит напомнить, заведомо приговорённых. Мы своё будущее сами знаем, хором кричали гадалке персонажи Вагинова; любые литературные опыты были пропитаны страхом, каким-то особым страхом – сплошным и всепроникающим. Ну да, журнальчики что-то печатали на плохой бумаге, где-то читались-обсуждались стишки, порхали остроты, анекдоты в дешёвых винных парах, но и веселящее питие было с привкусом грядущей беды – каждый божий день могли взять: предчувствовали скорую собственную погибель, фатально приближали её. Введенского ведь дважды арестовывали в поезде, недаром он писал про «яркие вокзалы и глухонемые поезда». Германтов частенько думал о той блестящей обречённой плеяде лукавцев и эпатажников, отвергавших прямые значения, слишком тонко чувствовавших слово, чтобы их умозрительно-затейливые художественные конструкции, их «формальные выкрутасы», по сути – их прозрения, прикидывающиеся ахинеей, понимали и принимали. Кто-то из них догадался так вести дневник, чтобы дни отсчитывались назад, кто-то в простых фразах хитро менял местами слова, получалась дразнившая языковое воображение абракадабра. Каждый по-своему и все вместе напоминали неумелых, но отчаянно азартных канатоходцев, с напускным бодрячеством балансировавших над пропастью, или переигрывавших актёров-эксцентриков из гротескной постановки Мейерхольда за миг до обрушения декораций. Введенский будто бы говорил кому-то из друзей, прогуливаясь с ним по Летнему саду, что главное для него – не писать стихи, а самому стать искусством: сделать жизнь, «зажечь беду вокруг себя». Но не стихи ли, их колюче-шероховатая неповторимая интонация и лишь затем – само алогичное поведение поэта желанную беду зажигали… Нарочито снижали стиль, за гибельным игровым отчуждением прятали потаённо-стыдливый поиск героической ноты? Однако Ювачев-Хармс с Введенским, Олейниковым или, к примеру, Стенич, бросавший вызов всем и вся хотя бы своим дендизмом, успели до трагических для них событий раскрыться, и как полно, ярко раскрыться, а отца в чистках «Кировского призыва» и тридцать седьмого пощадили, до конца сорокового года не трогали, но раскрыться он не успел. Разве не обидно? И никто не помнил о нём, никто? Даже шальные, болтливые обитатели Дома искусств? Ох, Германтов-сын проштудировал – именно проштудировал! – «Сумасшедший корабль» в надежде опознать отца среди ярчайших теней, сомнамбулически бродивших по его палубам-коридорам; куда там… И конечно, «Полутораглазого стрельца» тоже проштудировал, тоже безуспешно; а сколько он просмотрел мемуаров, дневников – терриконы пустой породы. Ладно, многих, обэриутов прежде всего, уничтожали, сажали, но ведь все Серапионовы братья выжили, кто с божьей, а кто и с партийной помощью, дожили до почётных седин, однако ни словечком никто из них не обмолвился о Мише Германтове. И опоязовцы, до последних дней своих озабоченные уточнением взаимных обид, не удосужились о нём вспомнить. Полгорода было друзей-приятелей-знакомых, а от него даже не легенда осталась, а след легенды, расплывчатый; и на фото, кстати, не лицо сохранилось, а призрачный след лица, прячущегося в тени шляпы. А на другом фото – совсем мутном – отец позировал в котелке. Иронизировал самим видом своим над дендизмом Стенича? Или попросту дурачка валял, с грустной оглядкой на Чарли Чаплина? Да. Будто бы отцовские розыгрыши ценили, и вкус ценили, и остроумие – поди-ка теперь проверь. Об отце, кажется, расшифровывая для печати свою телефонную книжку, упомянул что-то Шварц, он, кажется, был последним, кто виделся с отцом – в театре, на мейерхольдовском «Маскараде», чуть ли не за день до ареста самого Мейерхольда. Записки Шварца переиздали недавно, дай бог память, в «Азбуке» или в «Амфоре», но всё недосуг достать, заглянуть. Так, Мейерхольда арестовывали в Ленинграде, в его квартире на Каменноостровском проспекте, жену его, Зинаиду Райх, в ту же ночь убивали в Москве, но какое отношение к этому мог иметь отец? Да… что-то упоминал об отце Махов, сосед-живописец, правда, упоминал мельком, вскользь, они с отцом будто бы сталкивались в каких-то редакциях, кажется, в «Детгизе» у Маршака, где Махову заказывали иллюстрации к стишкам и сказкам. И Анюта с Липой, хотя бы на правах самых близких отцовских родственников, могли бы об отце кое-что рассказать, пожалуй, и не кое-что, многое, но Германтов-сын, как нарочно, был слишком мал, когда Анюта с Липой ещё были живы, чтобы задавать им осмысленные вопросы.
А потом?
Что он узнавал об отце потом?
Даже мама об отце не распространялась… вычеркнула из памяти, когда у неё появился Сиверский?
И ничего отец из своих сочинений не удосужился напечатать, возможно, что и не было вообще сочинений, из кожи лез вон, чтобы быть на виду, а написал с гулькин нос… Но он ведь и переводил, говорили, не хуже, чем Стенич с английского, переводил также с испанского, французского, причём Пруста, и перевёл, по мнению Сони, отлично – где она успела с ним, переводом тем, ознакомиться? – хотя в Academia предпочли перевод Франковского. Но где, где тот незаслуженно отвергнутый, будто бы в отрывках напечатанный отцовский перевод, где? Ищи-свищи: старики-букинисты на Литейном только плешивыми головами покачивали. И стишки-считалки он, кажется, в «Чиже» какие-то тиснул… или в «Еже»? Много лет прошло, однако так и не удосужился Германтов-сын найти те журналы. Рукописи замечательных отцовских современников в последние годы чудесно воскресали из советского небытия, уже на зависть отменно изданы толстые тома с проникновенными вступительными статьями, толковыми примечаниями и комментариями, а у отца даже рисунки канули, хотя некоторые, особенно уморительно-острые шаржи на городских знаменитостей из артистично-писательской среды, говорят, по рукам ходили, какие-то из тех шаржей будто бы осели в архиве философа Друскина, близкого к ОБЭРИУ, к бесшабашно-гибельному кругу Введенского, и Друскиным – он мудро читал угрозы, своевременно покинул официальную философию, тихо преподавал в вечерней школе литературу – убережённом в глухие годы от доносов культурных осведомителей сначала ОГПУ-НКВД, а позже и КГБ. Да, судьба вроде бы о том архиве заранее позаботилась – Друскин ведь по молодости лет не отплыл на философском пароходе, лишь угрюмо помахал ручкой учителям, затем вовремя вошёл в круг тех, кто… И посажен благодаря прозорливому уму и тишайшей осторожности-анонимности своей не был. Но Друскин умер давно, в начале восьмидесятых, да, хороший, умнейший был человек, и на редкость разносторонний, царство ему небесное, а где теперь тот архив, как в него заглянуть? Впрочем, промелькнуло где-то, что архив сдан был в Публичную библиотеку, надо было б навести справки. Как звали-то Друскина, Яков? Как и Сиверского. Архив… ищи-свищи. И кстати, кстати, у Юркуна, если войти уже в мистически-порочный круг Кузмина и поверить преданью, пропал чемодан с его собственным архивом, может, в том чемодане и что-то отцовское, нетленное, залежалось? Ну да, мечта идиота – найти чемодан гениальных рукописей; к примеру, отыскать в карманах мертвецов номерок из камеры хранения, где когда-то был забыт такой чемодан. Да, мальчик, то есть сын, Юра Германтов – был, а был ли отец? Отцовского приятеля Юркуна, тоже дилетанта от литературы и живописи, хотя бы за уши тащил в искусство Кузмин, придумавший своему питомцу и эффектный, спору нет, псевдоним – Юрий Юркун; может, Кузмин и талантливые заголовки к вещам Юркуна придумывал – что там? – «Дурная компания», «Маскарад слов», неплохо, совсем неплохо для бьющего в глаза заголовка, хотя проза-то, которая дошла до нас, которая издана, слабенькая, жиденькая и слабенькая. И как же везло Юркуну, если какие-то бумаги ещё и пропадали… Слухи о пропаже рукописей надувают миф; правда, кое-какие виртуозные рисуночки-наброски, в отличие от отцовских, после Юркуна остались… Как звали-то Юркуна в прежней, литовской жизни? Ионас Юркунас? Да. И какой же он неопределённый, двойственный, от него частенько бывали без ума женщины, но неизвестно, чаще ли, чем мужчины. Ага, двойственный Юркун мимикрировал – поменял имя-фамилию и приобрёл ореол самозванца, какие-то из его опусов опубликовали, мемуаристы его прославили. А отец имени своего не менял, как был от рождения Германтовым, так Германтовым и оставался; хотя… так-так-так, Гервольский всерьёз называл отца «Германтовским» или с невозмутимым видом шутил? Неужели и отец мог отравиться флюидами революционного времени, народившего самозванцев, и поменять, объявившись в Петербурге, длинную польскую фамилию на укороченную, но зато с исконно русским окончанием на «ов»? Не уточнить уже, не проверить, так ли было, не так – фортуна, похоже, когда-то от отца отвернулась, и никому теперь он не интересен. Отец всех вокруг знал, и все его знали, если верить легенде, однако был он при широкой известности в узких кругах невысокого мнения о своих талантах, щёк явно не надувал, и, может быть, остался от отца помимо проблематичных – есть они, нет? – переводов с французского, детских считалок и шаржей всего лишь – кто-то говорил об этом, но кто, кто? – возвышенно-игривый стих, мадригал, написанный в альбом Ольге Николаевне Гильдебрандт… нет, нет, у неё была пышная, с дефисом, фамилия, да, мадригал был написан в альбом Ольге Николаевне Гильдебрандт-Арбениной. Германтов так и не удосужился достать, прочесть тот стих-подношение, и вот – никаких следов, никаких; отец исчез почти за месяц до рождения сына, как если бы побоялся своего новорождённого сына увидеть… Исчез после премьеры «Маскарада», на которой, в фойе Александринки, и промелькнул в последний раз, даже о чём-то побеседовал со Шварцем, кружа по фойе; ну да, жена была на сносях, а отец, светский ветреник, не мог пропустить мейерхольдовскую премьеру…
Именно исчез – будто бы растворился, испарился.
Или нашёл ненароком пробоину в безумном времени и – выпал.
Увы, и тут был он неоригинален, до него сенсационно и бесследно исчез ленинградский литератор Добычин, но об исчезновении Добычина все сведущие в литературе и в подноготной заметных литераторов люди шептались, выстраивали из испуганного шёпота разнообразные, но вполне достоверные – от самоубийства до политического убийства – версии исчезновения. Добычина, неподражаемого минималиста в стиле своей прозы и аскета в жизни, накануне исчезновения прорабатывали за безыдейность и формализм на идеологическом судилище в Союзе Писателей, а отца официально в формализме не обличали, он, похоже, даже в членах Союза не состоял, во всяком случае, в печатных членских списках не значился. И если Добычин стал символом тихого таинственного ухода и из жизни, и из серьёзной, чистой литературы, то исчезновение отца, почти никем, наверное, незамеченное и вроде бы с литературным трудом не связанное, было вообще-то вполне естественным, рядовым как для того отравленного и обезумевшего, словно растворявшего неугодных ему особей в серной кислоте, времени, так и для того зыбкого, помрачившегося, потеряв себя, и надолго заболевшего места – найдётся ли ещё на белом свете великий город, который понудили бы трижды за век поменять своё имя? И даже не понять теперь был ли отец столь авантюрной натурой, как о том судачили, – ничем чрезвычайным даже в алкогольно-любовных похождениях своих, как будто, не отличился; не успел раскрыться – жалкий творческий итог уже подведён, – но какая же, судя по постоянному риску арестов и печальному, но словно засекреченному концу, расточительная и беспутно-путаная у него получилась жизнь. Он её, выпавшую на страшные годы, и впрямь талантливо прожил, коли так долго сумел удерживаться на лезвии бритвы… Ещё в юности в тюрьме познакомился с Юркуном, н-да, два романтичных иностранца-провинциала, уроженцы Австро-Венгрии и Литвы, одновременно и своевременно прибывшие в Петербург; ещё ничто не предвещало беды, а их, тайных соискателей славы, минуты роковые притягивали и завораживали; на их глазах испустит дух Серебряный век и заварится что-то такое, что невозможно было вообразить…

