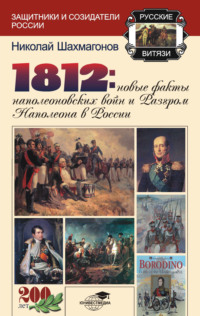
1812: Новые факты наполеоновских войн и разгром Наполеона в России
Таким образом, Тильзитский мир стал актом предательства славян, всей душою тянувшихся к России. Это ещё раз косвенно подтверждает, что на престоле находился человек случайный, подготовленный за пределами России в соответствующих враждебных обществах, но никак не Александр Павлович, воспитанный Екатериной Великой.
Не только к русским, но и ко всему славянскому миру питал тот, кто именовался Императором Александром Первым, безразличие, пренебрежение, а то и явную ненависть. В 1821 году в Греции вспыхнуло восстание против османского владычества. Башибузуки и египтяне подавили его и начали жесточайшую резню. На одном лишь острове Хиосе было вырезано 90 тысяч христиан. А ведь Россия в то время была достаточно сильна, чтобы прекратить этот беспредел. Ей достаточно было цыкнуть на турок, достаточно было только объявить о направлении в Средиземноморье своего флота, и турки бы, памятуя о первых двух Архипелагских экспедициях, безусловно, прекратили бы изуверства. Но Западу нравилась резня греков и славян, она соответствовала их видам на истребление славянского мира и истинной веры Христовой, ибо Европа уже с давних пор исповедовала формальное христианство. И Император, заглядывая в рот Западу, содеял ужасное. Он предпочёл направить войска на помощь своему другу, прусскому королю, для подавления восстания студентов, а не в Средиземноморье, чтобы спасти единоверцев Русского Народа.
На Веронском конгрессе в 1823 году он заявил: «Я покидаю дело Греции, потому что усмотрел в войне греков революционные признаки времени». Но ведь освободительная война с иноземными захватчиками никогда и ничего общего с революцией не имела. Император, используя столь модные на Западе двойные стандарты, предпочел назвать турецкого султана законным властителем греков и признать законным османское иго. Это предательское деяние Императора привело к тому, что Россия утратила окончательно остатки своего влияния в Средиземноморье. В Лондоне же решили, что, поскольку Россия покинула тот стратегически важный район, Англии надлежит немедленно его занять. Для того и передавался Императором Архипелаг в руки Наполеона, чтобы после поражения Франции, он достался Англии. Но и этого мало. Именно тот, кого мы считали Александром Первым, отдал врагу Русскую Америку, в частности, штаты Аризона и Вашингтон.
Вполне понятно, что все эти предательские акты не были инициативами самого Императора. К ним принуждали его те, кто знал страшную тайну подмены истинного наследника престола Александра Павловича на Симеона Великого.
Только на совести того, кто стоял во главе Российской Империи в начале XIX века, лежит то, что французы сумели войти в Москву. Ни при Екатерине Великой, ни при Павле Первом это было бы невозможно. Напротив, русские войска совершали блистательные освободительные походы и били врага на его территории. Но даже когда русский народ, вопреки бездействию Императора, все же сломил хребет наполеоновской банде, тот вёл себя более чем странно, надругаясь над русской воинской славой и презирая её.
Замечательный русский военный историк Антон Антонович Керсновский с сожалением отмечал: «Могучий и яркий патриотический подъём незабвенной эпохи Двенадцатого года был угашен Императором Александром, ставшим проявлять какую-то странную неприязнь ко всему национальному русскому. Он как-то особенно не любил воспоминаний об Отечественной войне – самом ярком Русском национальном торжестве и самой блестящей странице своего царствования. За все многочисленные свои путешествия он ни разу не посетил полей сражений 1812 года и не выносил, чтобы в его присутствии говорили об этих сражениях. Наоборот, подвиги заграничного похода, в котором он играл главную роль, были оценены им в полной мере (в списке боевых отличий Русской армии Бриенн и Ла Ротьер значатся, например, 8 раз, тогда как Бородино, Смоленск и Красный не упоминаются ни разу)».
В 1814 году автор многотомной Истории наполеоновских войн генерал-лейтенант Александр Иванович Михайловский-Данилевский записал в своём дневнике: «Непостижимо для меня, как 26 августа 1814 года Государь не только не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды по убиенным, но даже в сей великий день, когда все почти дворянские семьи России оплакивали кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на берегах Колочи, Государь был на балу у графини Орловой. Император не посетил ни одного классического места войны 1812 года: Бородино, Тарутина, Малоярославца, хотя из Вены ездил в Вагрмаские и Аспернские поля, а из Брюсселя – в Ватерлоо».
Император сделал всё, чтобы в Париже победоносные Русские войска, сыгравшие главную роль в разгроме наполеоновских банд и освободившие Европу, чувствовали себя не победителями, а униженными и оскорблёнными.
Антон Антонович Керсновский писал: «При вступлении войск в Париж произошёл печальный случай. Александр Первый повелел арестовать двух командиров гренадерских полков «за то, что несчастный какой-то взвод с ноги сбился» (вспоминал Ермолов). Хуже всего было то, что Государь повелел арестовать этих офицеров англичанам. Распоряжение это возмутило всех, начиная с великих князей. Тщетно старался Ермолов спасти честь Русского мундира от этого неслыханного позора «Полковники сии – отличнейшие из офицеров, – молил он Государя, – уважьте службу их, а особливо не посылайте на иностранную гауптвахту!» Александр был неумолим; этим подчеркнутым унижением Русских перед иностранцами он стремился приобрести лично себе популярность среди этих последних (ненавидевших русских), в чём отчасти и успел».
Многие биографы, историки, исследователи пытались понять, что происходило с Императором Александром Первым в начальные годы его правления. Они рассматривали того, кто находился на русском престоле, как Александра Павловича, рождённого и выросшего Великим Князем и воспитанного в великокняжеском духе, то есть подготовленного к нелёгкому жребию русского. А жребий Государя в то время очень и очень нелёгок, и было бы несправедливо утверждать, что каждый, кто рождён в августейшей семье, стремился непременно занять сей верховный пост в государстве. Известно, к примеру, как было воспринято известие о том, что ему надлежит в скором времени ступить на престол российских царей, великим князем Николаем Павловичем и его супругой Александрой Федоровной.
Великий князь Николай Павлович, успешно откомандовав 2-й бригадой 1-й гвардейской дивизии, только что получил назначение на должность генерал-инспектора по инженерной части. И вдруг, 13 июля 1819 года, после смотра в Красном Селе Государь пожелал отобедать с Николаем и его супругой втроём, без посторонних. За обедом он объявил, что смотрит на Николая, как на наследника престола и что именно ему он передаст власть, причём, как выразился он, «это случится раньше, чем предполагают, а именно, при его, Императора, жизни».
Александра Федоровна вспоминала: «Мы сидели, как окаменелые, широко «раскрыв глаза, не будучи в состоянии произнести ни слова». Государь продолжал: «Кажется, вы удивлены; так знайте, что мой брат Константин, который никогда не заботился о престоле, решил ныне более, чем когда-либо, формально отказаться от него, передав свои права брату своему Николаю и его потомству. Что же касается меня, то я решил отказаться от лежащих на мне обязанностей и удалиться от мира».
Николай Павлович так описал впечатление от той беседы: «Разговор во время обеда был дружеский, но принял вдруг самый неожиданный для нас оборот, потрясший навсегда мечту спокойной будущности».
Как видим, известие о том, что Николаю Павловичу придётся стать Императором, не вызвало радости ни у него самого, ни у его супруги. Кстати, в критические минуты утра 14 декабря 1825 года Николай Павлович, обращаясь к командирам преданных ему частей, сказал: «Вы знаете, господа, что Я не искал короны. Я не находил у себя ни опыта, ни необходимых талантов, чтоб нести столь тяжкое бремя. Но раз Бог Мне её вручил… то сумею её защитить и ничто на свете не сможет у Меня её вырвать. Я знаю свои обязанности и сумею их выполнить. Русский Император в случае несчастья должен умереть со шпагою в руке… Но во всяком случае, не предвидя, каким способом мы выйдем из этого кризиса, Я вам, господа, вручаю своего сына Александра. Что же касается до Меня, то доведётся ли мне быть Императором хотя бы один день, в течение одного часа Я докажу, что достоин быть Императором!»
Иным был тот, кого мы знаем под именем Императора Александра Первого. Весьма ценными являются воспоминания Адама Чарторыжского, который был в «якобинском», как его называли, кружке друзей Императора. Тот вспоминал: «В первое время Александр находился в ложном, крайне затруднительном и тяжёлом положении по отношению к деятелям заговора. В течение нескольких месяцев он чувствовал себя как бы в их власти, не решаясь действовать во всём вполне самостоятельно. Александр знал, что мысли о заговоре сложились в умах чуть ли не с первых дней царствования Павла, но что они осуществились лишь с того момента, когда им стало известно о согласии наследника престола. Каким же образом мог он принять строгие меры, когда это согласие, хотя и вынужденное и условное, было всё-таки дано им?
Как должен поступить суд, выделяя главных деятелей от менее виновных? К последней же категории придётся отнести главнейших представителей высшего общества, гвардии и армии. Почти всё петербургское общество было замешано в этом деле. Как установить по закону различие этой ответственности между лицами, принявшими непосредственное участие в убийстве и теми, кто желал только отречения? Заставить Павла подписать отречение – не есть ли это уже насилие над его личностью, допускающее само по себе возможность, в случае сопротивления и борьбы, поднять на него руку?»
В одном только ошибался Чарторыйский – в том что Александр не испытывал страха перед Паленом. Страх перед этим человеком он испытывал как до цареубийства, так и после него, причём страх, далеко не безосновательный, ибо Пален был действительно бездушным, мерзким и коварным чудовищем. К тому же ему была известна тайна Императора!
Александр долгое время не знал имён главных участников заговора и тех, кто осуществил убийство. Но он, естественно, знал, что во главе стоял именно Пален. Этот жестокосердный инородец и ярый русофоб родился в Курляндии в 1745 году. Во время переворота 1762 года был капралом в лейб-гвардии Конном полку, том самом, в котором служил Григорий Александрович Потёмкин, но в отличие от Потёмкина Пален в те дни был пассивен и осторожен. О службе его никаких добрых сведений не имеется. Когда присоединили Курляндию он стал (в 1796 году) курляндским генерал-губернатором, но по воцарении Павла Первого был уволен со службы, а в 1798 году, благодаря усердию братьев одной из масонских лож, стал Санкт-Петербургским военным губернатором и добился производства в генералы от кавалерии. В 1800 году, оставаясь военным губернатором, стал первоприсутствующим в коллегии иностранных дел, оклеветав и добившись отстранения Федора Васильевича Ростопчина. Затем сделался главным директором почт. На этом посту проявилась одна из сущностей этого злодея – он перлюстрировал в корыстных целях всю переписку.
Пален хотел властвовать в России и сделать так, чтобы Император был у него «на побегушках». Но в то время в России это ещё было невозможно, или, если и возможно, то лишь при попустительстве самого Государя. В войсках продолжался ропот, довольно было искры, чтобы вспыхнуло пламя, которое могло спалить всех злодеев. Возможно, Пален это понял, когда буквально силком вытащил Александра к строю гвардии. Граф Лонжерон вспоминал: «Пален увлёк Императора и представил его Преображенскому полку. Талызин кричит: «Да здравствует Император Александр!» В ответ гробовое молчание среди солдат. Зубовы выступают, говорят с ними и повторяют восклицание Талызина, – такое же безмолвие. Император переходит к Семеновскому полку, который приветствует его криком «Ура!» Другие следуют примеру семеновцев, но преображенцы по-прежнему безмолвствуют».
Таким образом, новый Император становится той тонкой ниточкой, на которой повис над пропастью и сам фон дер Пален. По настоянию вдовствующей Императрицы Марии Федоровны он был выслан из Петербурга в свои курляндские имения, и ему было категорически запрещено появляться в обеих столицах, а также поблизости от мест пребывания Императора. «Русское общество отнеслось с полным равнодушием к вести о падении могущественного вельможи, даже приобретшего некоторую популярность своим преступлением», – заключила княгиня Ливен.
Аналогичная судьба ожидала и других заговорщиков. Император постепенно избавлялся от тех, от кого мог. Для английских политиканов они все были уж отработанным материалом и не представляли никакого интереса. Достаточно того, что управляем был сам Император.
Осталось в числе приближённых лишь «остзейское чудовище Беннигсен» Вот где начинается самое удивительное. Убийца Императора Павла, человек, который вёл себя в трагическую ночь 11 марта более чем цинично, удалён не был. Объяснение может быть одно – Императору не позволили его удалить те «тёмные силы», в руках которых он находился.
Беннигсен не имел ни малейших дарований. Наполеон, и тот назвал его бездарем. И вдруг этого, по отзывам современников, трусливого анику-воина, дослужившегося до генеральского чина, Император назначил главнокомандующим русской армией, направленной на выручку разбитой Наполеоном Пруссии. Беннигсен фантастически разбогател в период с декабря 1806 по июнь 1807 года на бессовестном обкрадывании чужой для него армии, чужой страны. Тем более, что он на всю жизнь затаил лютую злобу к Императору, не возвысившему его за убийство Павла Петровича. Он и в конце жизненного пути любил говорить, что Александр неблагодарен по отношению к нему, рисковавшему своей драгоценной жизнью, ради того, чтобы освободить престол.
После назначения Беннигсена началась цепь «случайностей», которая привела французов в Москву. При внимательном исследовании военного аспекта этой трагедии выводы ужасают.
Адам Чарторыжский в защиту Императора утверждал, что тому «лишь через несколько лет постепенно удалось узнать имена заговорщиков, которые частью сами удалились со сцены, частью же были сосланы на Кавказ при содействии весьма многочисленных их соучастников, сохранивших своё место и положение. Все они умерли несчастными, начиная с Николая Зубова, который, вскоре после вступления на престол Александра, умер вдали от двора, не смея появляться в столице, терзаемый болезнью и неудовлетворённым честолюбием».
Кара провидения поразила каждого злодея, причём каждому воздано было по делам их. Форма наказания, избранная для них Александром, была наиболее чувствительна, но более всех наказал он самого себя, как бы умышленно терзая себя упрёками совести, вспоминая об этом ужасном событии в течение всей своей жизни.
Рубеж XVIII–XIX веков был временем, когда высшая знать, разложенная вольтерьянством и масонством, прогнила насквозь. Можно по пальцам перечесть, кто в окружении Павла Первого мог проявить волю и храбрость. Их всех удалили от двора. Сам Павел Первый, по отзывам добропорядочных современников, был отважен и храбр. Мужественны были Аракчеев, Ростопчин. А вот Панин, Пален и Беннигсен, можно сказать, были патологическими трусами. Николай Зубов становился храбрым только в сильном опьянении, Платон же Зубов был труслив в любом состоянии.
«Тотчас после совершения кровавого злодеяния заговорщики предались бесстыдной, позорной, неприличной радости, – писал А.Чарторыжский. – Это было какое-то всеобщее опьянение не только в переносном, но и в прямом смысле, ибо дворцовые погреба были опустошены, и вино лилось рекою, в то время как пили за здоровье нового Императора и главных «героев» заговора. В течение первых дней после события заговорщики открыто хвалились содеянным злодеянием, наперерыв выставляя свои заслуги в этом кровавом деле, выдвигаясь друг перед другом на первый план, указывая на свою принадлежность к той или другой партии, и т. п. А среди этой общей распущенности, этой непристойной радости, Император и его семейство, погруженные в горе и слёзы, почти не показывались из дворца. Целыми часами оставался он в безмолвии и одиночестве, с блуждающим взором, устремлённым в пространство, и в таком состоянии находился почти в течение многих дней, не допуская к себе почти никого. Я был в числе тех немногих лиц, с которыми он виделся более охотно в эти тяжелые минуты…. Получив от него разрешение, входить к нему во всякое время без доклада, я старался по мере сил влиять на его душевное состояние и призывать его к бодрости, напоминая о лежащих на нём обязанностях. Нередко, однако, упадок духа был настолько силен, что он отвечал мне следующей фразой: «Нет, всё, что вы говорите, для меня невозможно, я должен страдать, ибо ничто не в силах уврачевать мои душевные муки». Все близкие к нему люди, видя его в таком состоянии, стали опасаться за его душевное равновесие…»
Что касается последних лет царствования Александра, то существует так же предание, причём, весьма достоверное, о том, что Император, прежде чем принять решение покинуть престол, встречался со святым преподобным Серафимом Саровским, слава о котором в ту пору широко распространилась по всей Руси. Святой старец предрёк бунт декабристов и предупредил Государя, что самому ему с бунтом не справиться. Подавить масонскую гидру сможет только брат его Николай, человек мужественный, решительный и отважный. Публицист Гедеонов, специально исследовавший этот вопрос, указал, что Император приезжал в Саров из Нижнего Новгорода, и будто бы действительно Император раз, в период своего пребывания там, исчезал на несколько суток неизвестно куда. Государь напоминал Николаю Павловичу о будущей его роли с поры той не раз. 16 августа 1823 года был подписан Манифест об отказе Константина от наследования престола.
В последние годы царствования почти непрерывным потоком шли сообщения о возмутительных действиях тайных обществ, о заговорах. Однажды, после доклада Васильчикова, Император сказал ему: «Друг мой Васильчиков! Так как вы находитесь у меня на службе с начала моего царствования, то вы знаете, что и я когда-то разделял и поощрял эти мечтания и заблуждения». И потом, после длинной паузы, добавил: «Не мне наказывать».
Однако вернёмся к событиям эпохи наполеоновских войн.
Если бы беды, свалившиеся на Россию и Русскую армию ограничились лишь 1805 годом, с его печальным сражением при Аустерлице… Но Император готовил новые испытания для русских воинов. В 1806 году он ввязался в новую ненужную для России войну.
Глава шестая. Кому служил барон?
25 и 26 января 1807 года под небольшим местечком Прейсиш-Эйлау гремело одно из наиболее кровопролитных сражений XIX века. И оказалось оно столь же тяжелым, сколь и бессмысленным, ибо ни одна из сторон – ни русские, под командованием барона Беннигсена, ни французы, возглавляемые «самим» императором Наполеоном, не решили своих задач, кроме одной, самой страшной и бесчеловечной – взаимного уничтожения живой силы.
Под Прейсиш-Эйлау русская армия оказалась в результате отхода, осуществляемого после неведомо зачем предпринятого Беннигсеном наступательного движения. Впрочем, наступление было необходимо самому остзейскому барону лишь для того, чтобы хоть как-то оправдать выторгованный им для себя с помощью обмана Императора пост главнокомандующего.
Во время Пултусского сражения 14 декабря 1806 года Беннигсену удалось добиться успеха и принудить французов к отступлению. Французами командовал маршал Ланн, у которого было 20 тысяч человек при 120 орудиях. Беннигсен имел 45 тысяч человек при 200 орудиях. Перевес подавляющий. Казалось, есть все условия для полного разгрома неприятеля и полного его истребления. Однако Беннигсен удовлетворился тем, что заставил Ланна отступить, и тотчас же прекратил преследование.
Зато в Петербург он послал реляцию, в которой яркими красками описал свою блестящую победу… Нет, не над Ланном… Он солгал, что победил «самого» Наполеона. Это лживое известие помогло сторонникам Беннигсена при русском дворе добиться назначения барона на пост главнокомандующего русской армией, действовавшей на полях Восточной Пруссии и Польши.
Напомним, что после того, как осенью 1806 года Наполеон разбил прусскую армию под Йеной и Ауерштедтом, Россия пришла на помощь Пруссии, и были для успеха этой миссии по все условия. Но врагам России удалось указанным выше способом провести на пост главнокомандующего изменника и предателя, который с первых же дней начал весьма странные действия против Наполеона.
4 января 1807 года, когда Наполеон ещё верил в непобедимость своей армии, поскольку Бертье был рядом, Беннигсен открыл кампанию наступательными действиями, предпринятыми с весьма неопределенными целями. Наступление русской армии, начатое в тяжелых условиях зимы, встревожило Наполеона, и император поспешил предложить перемирие прусскому королю, чтобы выключить из дела хотя бы одного противника. Но не тут-то было.
Прусский король ответил Наполеону отказом, а Беннигсену написал: «Перемирие мне противно. Остановив Ваши движения, оно даст повод к ложным толкам. Желаю устранить всякий поступок, несогласный с видами Императора Александра. Предложение французов доказывает, что, не привыкнув действовать зимою, они только хотят выиграть время и уверить нас, будто нам нечего заботиться о Кенигсберге, и они не имеют против него враждебных намерений. Мне приятнее предоставить спасение мое храброй армии Императора Александра, нежели полагаться на двусмысленные и ненадежные обещания неприятелей».
Наполеон был на грани отчаяния – ему предстояло сражаться с выносливыми и готовыми к суровым испытаниям русскими войсками, имевшими надежных союзников – храбрых прусских воинов. Из истории он знал, что если русских удавалось столкнуть с пруссаками, то бились и те, и другие насмерть, но если случалось, что выступали они в союзе – прочнее его не было, так как он был лишён коварства, столь свойственного прочим союзникам России, обычно стремившимся к решению своих личных целей за счёт русской крови.
Знал Наполеон и о том, что Фридрих Великий, разбитый русскими в Семилетней войне, завещал своим потомкам жить в мире с Россией, ибо был свидетелем величественной поступи Русской Державы в Золотой екатерининский век.
У Наполеона оставалась лишь одна надежда – на то, что во главе русской армии стоял Беннигсен, которого он считал бездарем. Барон либо таковым и являлся, либо был умным и коварным врагом России. На этот вопрос мы найдём ответ в очередных главах.
Надежда Наполеона на то, что Беннигсен – военачальник без таланта или во всяком случае во многом уступающий маршалу Бертье, едва не оправдалась уже в январе 1807 года: путем нелепых движений, которые и маневрами можно назвать с большой натяжкой, Беннигсен поставил русскую армию в критическое положение.
Первый шаг к тому, чтобы удержать закалённые суворовскими походами русские войска от победы над французами, Беннигсен уже сделал под Пултуском. Правда, французы потеряли там около 6 тысяч человек, а русские менее 3 тысяч. Но ведь будь на месте Беннигсена любой другой русский генерал, разве бы таким уроном отделались французы? До и после Беннигсена генералы русской армии сражались с противником, как правило, значительно уступая ему числом войск. Они успешно били врага не числом, а уменьем. А вот чтобы не разбить врага с таким перевесом сил, который был у Беннигсена, да ещё имея под предводительством блестяще подготовленные, храбрые, испытанные в боях войска, нужно было очень и очень постараться. В строю русских воинов было ещё немало участников Итальянского и Швейцарского походов Суворова, других великих компаний.
Действия же барона Беннигсена не могут не заставить задуматься над истинной целью поведения этого иноземца на русской службе. Для чего, к примеру, было проведено январское наступление русской армии в 1807 году?
В «Истории русской армии и флота» отмечается, что Беннигсен «вознамерился… двинуться под прикрытием лесов и озер к нижней Висле, разбить по частям левофланговые корпуса Наполеона – Нея и Бернадота, освободить Грауденц и, угрожая сообщениям Наполеона, быть может, заставить последнего начать отступление от Варшавы…»
Историк Байов не случайно использует ироничные слова «быть может, заставить». Так и хочется прибавить – «а, быть может, и нет». К тому же и замысел каков! Разбить Наполеона! Такой замысел под силу Суворову, Кутузову, Барклаю-де-Толли, Багратиону!.. То есть полководцам, а не странным баронам, неведомо для чего русский мундир надевшим.
Способен ли был Беннигсен осуществить этот замысел? Мог ли он всерьез говорить в приказах и распоряжениях о разгроме Наполеона? Чтобы ответить на этот вопрос, надо лучше представить тогдашнюю обстановку. Генерал-лейтенант А.И. Михайловский-Данилевский так характеризовал то время: «Настоящее поколение не может иметь понятия о впечатлении, какое производило на противников Наполеона известие о появлении его на поле сражения!»