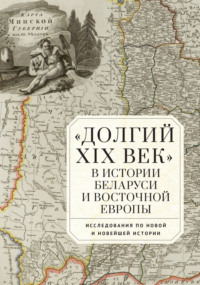
«Долгий XIX век» в истории Беларуси и Восточной Европы. Исследования по Новой и Новейшей истории
Другое мнение высказал М. Чубатый. Он утверждал, что Кревское соглашение 1385 г. не предусматривало инкорпорацию ВКЛ в Корону. Разговор не шел и о персональной унии. ВКЛ должно было сохранить государственную обособленность, но при этом подчинялось Польше, что можно квалифицировать как вечную реальную унию. После смерти Ягайло для ВКЛ предполагалось избрать отдельного правителя. Однако на практике кревские договоренности никогда не выполнялись[109].
Представление о Кревском договоре как персональной унии между ВКЛ и КП в определенной мере основывалось на специфическом положении, которое в послекревский период занимал в ВКЛ князь Скиргайло. Ряд свидетельств источников указывали на то, что это брат Ягайло был в 1386–1392 гг. великим князем литовским (грамоты[110], литовско-русские[111] и великорусские летописи[112], сведения Я. Длугоша[113], М. Бельского[114], М. Стрыйковского[115]). Взгляд на Скиргайло как великого князя литовского был широко распространен в восточнославянской литуанистике. Такое мнение можно обнаружить в произведениях И. Боричевского[116], П. Долгорукова (правда, он путал Скиргайло с его братом Коригайло)[117], О. Турчиновича[118], М. Смирнова[119], И. Беляева[120], К. Бестужева-Рюмина[121]. «Отдельным государем» считал Скиргайло Д. Зубрицкий[122].
На особый статус Скиргайло М. Смирнов указывал как на доказательство того, что Кревское соглашение не имело следствием инкорпорацию ВКЛ в Корону. Причиной же назначения Скиргайло великим князем исследователь считал личную привязанность Ягайло к брату, что действительно имело место. Опираясь на сведения М. Стрыйковского[123], М. Смирнов признавал наличие у Скиргайло намерения убить Витовта, объясняя это тем, что последний надеялся в результате Кревского соглашения стать великим князем литовским[124].
Однако, по свидетельству Б. Ваповского, Скиргайло был только наместником, который распоряжался в ВКЛ в отсутствие Ягайло, а вовсе не великим князем литовским[125]. Возможно, данное сообщение повлияло на исследователей, которые попытались сформировать компромиссный взгляд на статус Скиргайло в период 1386–1392 гг.
Вслед за И. Лелевелем[126] и А. Коцебу[127] наместником с великокняжеским титулом считал Скиргайло С. Соловьев (в одной из работ вместо Скиргайло им ошибочно назван Свидригайло[128])[129]. В качестве то великого князя, то наместника Скиргайло упоминали И. Шараневич[130], М. Коялович[131], Ф. Чарнецкий[132], И. Чистович[133], Д. Иловайский[134], И. Якубовский[135].
Только наместником считали Скиргайло Н. Карамзин[136], Д. Бантыш-Каменский[137], Н. Полевой[138], Н. Костомаров[139], В. Антонович. К такому же мнению в рецензии на монографию М. Смирнова пришел и М. Коялович[140], однако позднее он вернулся к своей прежней точке зрения[141].
Точную аргументацию в пользу того, что Скиргайло не был великим князем, первым привел А. Барбашев. В частности, он указал на то, что Скиргайло никогда не титуловался великим князем литовским, а также не владел Вильно. Столицей ВКЛ управляли назначенные Ягайло поляки (сначала подканцлер Николай Москожевский, а позднее Ясько Олесницкий)[142]. Почти одновременно в польской историографии с аналогичными утверждениями выступил Ю. Вольф[143].
В результате только наместником признал Скиргайло К. Бестужев-Рюмин[144], тем самым отказавшись от своего прежнего мнения[145] (это было сделано в рецензии на популярный очерк П. Брянцева[146], что подтолкнуло последнего перенять пример рецензента[147]); то же сделали М. Ясинский[148], М. Грушевский[149], Н. Максимейко[150], С. Томашевский[151], П. Клепатский[152]. При этом М. Грушевский в противовес А. Барбашеву и Ю. Вольфу утверждал, что статус Скиргайло все же отличался от того, который имели польские наместники в Вильно: по его мнению, этот князь был наместником Ягайло в общих делах ВКЛ.
Вместе с тем, преобладающее число восточнославянских историков продолжали рассматривать Скиргайло в качестве великого князя литовского. Так, в отличие от своего учителя, считало большинство учеников В. Антоновича (Н. Дашкевич[153], Н. Молчановский[154], А. Андрияшев[155], П. Иванов[156], В. Данилевич[157]), причем как до, так и после появления исследований А. Барбашева и Ю. Вольфа. Аналогичного мнения придерживались А. Лонгинов[158], Н. Петров[159], М. Любавский[160], Н. Тихомиров[161], Е. Голубинский, который ошибочно утверждал, что сохранение во главе ВКЛ отдельного великого князя, под верховенством польского короля, было одним из условий Кревского соглашения 1385 г.[162], Ф. Леонтович[163], М. Довнар-Запольский[164], И. Малиновский[165], а также авторы многочисленных работ популярного характера.
Относительно оценок исторического значения Кревского соглашения следует отметить, что восточнославянские исследователи, в отличие от польских, не жалели эпитетов, описывая катастрофичность его последствий. Против «апофеоза» в польских оценках унии выступал М. Грушевский[166]. Подчеркивалось прерывание «природного» развития ВКЛ (которое, по мнению большинства авторов, должно было привести к «обрусению» этнических литовцев)[167]. Концом «исторического движения» Литвы считал 1385 г. С. Соловьев[168]. По оценке ученого, «литовские князья продали свое могущество за польский престол»; он писал и о «фатальном браке», и о «несчастной связи» между ВКЛ и КП[169]. В.Б. Антонович считал, что уния затормозила природное развитие ВКЛ, поскольку его силы теперь направлялись на самооборону от покушений Польши[170]. Н. Дашкевич[171], а позднее – М. Грушевский определяли всю дальнейшую историю ВКЛ (до 1569 г.) как «период агонии»[172].
Встречались и откровенно сомнительные оценки событий 1385–1386 гг. Так, митрополит Иосиф утверждал, что уния спасла Польшу от онемечивания[173]. А. Барбашев считал, что целью поляков уже тогда было способствование усилению литовского боярства во вред великокняжеской власти[174]. М. Владимирский-Буданов отстаивал спорный тезис о том, что позднейшая литовско-московская борьба также частично была следствием унии, что в этом противоборства ВКЛ будто бы отстаивало «чужие интересы»[175]. Хотя, как известно, великорусские земли до Кревского соглашения не входили в сферу интересов внешней политики КП, а ВКЛ они очень даже интересовали. Н. Устрялов же стремился доказать, что главная цель польской стороны заключалась в унии церквей[176]. Эту точку зрения принял М. Коялович[177].
Резко негативное отношение абсолютного большинства восточнославянских исследователей к последствиям Кревской унии трансформировалось в усилия многих из них доказать «случайный» характер этого события, приподнести его как личное дело Ягайло. Первым четко такой взгляд высказал Н. Устрялов[178]. Такого же мнения придерживался С. Соловьев, который отмечал, что для Ягайло Витовт был соперником, «от властолюбия которого разумным было обеспечить себя другим престолом»[179]. Его разделял М. Коялович, который обосновывал отсутствие «каких-нибудь глубоких мнений» в действиях великого князя литовского[180]. О «механическом соединении» в результате «дипломатический интриги» писал В. Ключевский [181].
Встречались и отличные от названных точки зрения. Так, под влиянием наработок польских историков И. Шараневич говорил о «высших политических мотивах» решения Ягайло[182]. Позже эту оценку повторил В. Беднов[183]. Рациональные обоснования заключению Кревского соглашения приводил М. Смирнов, считавший, что враждебные взаимоотношения между ВКЛ и КП в течение нескольких предшествующих десятилетий болжны были вызвать к жизни идею малопольских магнатов о необходимости налаживания добрососедских отношений между государствами[184].
С отрицанием трактовки унии только как частного дела Ягайло выступили К. Бестужев-Рюмин[185], Н. Максимейко[186], Ф. Леонтович[187], указывая на ее направленность против Тевтонского ордена – главной угрозы для этнической Литвы.
Вместе с тем, тезис о «случайности» унии не утратил своей популярности и позднее. Показательно, что даже марксистские методологические подходы не помешали Н. Рожкову выразить свою приверженность этой традиционной для российской исторической литературы точке зрения[188]. М. Грушевский подробно остановился на мотивах, которые подталкивали к унии Ягайло и малопольских магнатов, которые искали опору против Венгрии и великополян (такое же мнение высказал и А. Пресняков[189]). Но украинский историк увидел в унии «чисто династическое» событие и даже «неожиданную дипломатическую комбинацию»[190].
Таким образом, круг вопросов, связанных с Кревским договором 1385 г., широко отразился в восточнославянской литуанистике исследуемого периода. Однако долгое время (до конца XIX в.) действительный анализ как содержания договоренностей, так и степени их реализации почти не встречался. Вместо этого озвучивались в основном стереотипные оценки, которые опирались на значительно более поздние реалии взаимоотношений ВКЛ и КП. Обращение же к непосредственному изучению Кревского акта и связанного с ним комплекса источников в значительной мере был ответом на вызов со стороны польской историографии. В результате произошел (хотя и не всеобщий) отход от ошибочного трактования событий 1385 г. как персональной унии, а Скиргайло – как великого князя литовского. При этом имело место заимствование репрезентантами восточнославянской историографии части тезисов, высказанных в польской литуанистике того времени и определенное сближение на этой основе исследовательских позиций. Последующий же этап эволюции представлений о Кревском договоре уже стал делом главным образом польских историков по причине фактической остановки литуанистических исследований на территории советского государства.
«Могила героев»: наррация о штурме замка Пиленай в 1336 г. и формирование героического мифа модерной литовской нации в XIX в.
О.И. Дернович
Сюжет для античной трагедииОдин из самых красноречивых эпизодов экспансии Тевтонского ордена в Прибалтике и его противостояния с Великим княжеством Литовским и территориями, которые в будущем войдут в его состав, связан с легендарным штурмом замка Пилены в 1336 г. Это событие произошло во время орденского рейда, возглавляемого великим магистром Дитрихом фон Альтенбургом (из рода бурггра-фов Альтенбургов; великий магистр 3.V.1335 – 6.Х.1341).
Правление великого магистра Дитриха ознаменовалось тем, что он привел на помощь Ордену новые силы рыцарей-визитёров из Центральной и Западной Европы: воинов герцога Бранденбургского, графов Фландрии (де Намен), Франции, немецких (Генненберг) и австрийских земель. Зимой 1335–1336 гг. общее количество этих хорошо вооруженных «гостей» достигло более 200 «galea» (шлемов)[191].
Согласно сообщениям «Новой прусской хроники», объединённые орденские силы 25 февраля 1336 г. двинулись на Литву и осадили «castrum Pillenen in terra Troppen». Как можно понять, этот «замок Пилены» в «земле Тропен» был важным опорным пунктом в Жемайтии, на границе с уже завоеванным Орденом Пруссией. Земля Тропень, как и замок Пилены, не имеют точной локализации. Предполагается, что они находились на северном (правом) берегу нижнего Немана.
Описания событий в замке Пилены, оставленные орденской хроникой, напоминают по стилю и масштабу античную трагедию. Согласно прусской хронике, в Пилены собралось более 4000 человек из четырех земель. Увидев армию Ордена, язычники «потеряли надежду сохранить замок» и бросили свое имущество в огонь.
Затем состоялся акт коллективного самоубийства. Драматизм наррации придаёт повествование о «vetula pagana» («старой язычнице»), предположительно жрица, которая убила топором 100 своих соплеменников, а затем покончила с собой.
Граф Гененберг взял замок под свой контроль, но некоторым раненым защитникам удалось бежать верхом на конях. Вождя язычников, которого в хронике называют «Rex Lithwanorum», защитили его слуги. «Охваченный страхом», он скрылся в убежище, где заколол свою жену и бросил её тело в огонь. Язычники, впечатленные таким поражением, склонили головы, и вождь убил их всех. «Castrum Роіепеп» был разрушен, из него были вывезены пленные и богатая добыча[192].
Основные сведения о событиях под Пиленами впервые зафиксировал хронист Виганд Марбургский (Виганд с Магбурга) (ок. 1365–1394/1409). Сам Виганд не был рыцарем Ордена, но являлся герольдом великого магистра Конрада Валенрода (1391–1393). Хроника Виганда охватывает период с 1293 по 1394 гг. и является одним из важнейших источников по истории Тевтонского ордена в Пруссии. Первоначальный текст хроники был написан рифмованной прозой на средневерхненемецком языке (vulgari teutonico).
В середине XV в. по инициативе польского историографа и королевского придворного Яна Длугоша (1415–1580) был сделан латинский перевод хроники. На протяжении XV–XVI вв. именно на латинский текст хроники неоднократно ссылались хронисты и историографы Польши и Великого княжества Литовского (Ян Длугош, Матей Меховский, Мартин Кромер; Матей Стрыйковский, Альберт Вьюк-Коялович). Кроме того, на основе сохранившихся частей немецкого оригинала в Пруссии в XVI в. возникла новая традиция наррации о Пиленах (Симон Грунау, Лукас Давид, Каспар Шюц) [193]. Именно на страницах «Пусской истории» Каспара Шютца было названо имя предводителя защитников Пилен – «Kónig Marger»[194].
Историография эпохи Просвещения и РомантизмаЧерез двести лет после возникновения новой прусской традиции историописания XVI в., обратившей внимание на Пилены, и через сто лет после исследований в ВКЛ Альберта Виюк-Кояловича, тема осады замка Маргера вновь вернулась на страницы историографических трудов, работает. Оживил этот сюжет немецкий и российский историк, известный норманист и издатель русских летописей[195]Август Людвиг Шлёцер / August Ludwig Schlözer (1735–1809) в своём обзорном труде «Geschichte von Littauen, ais einem eigenen GroCfurstenthume, bis zum Jh. 1569.»[196] («История Литвы как отдельного Великого княжества, до 1569 г.»). Сам Шлётцер, как уже отмечалось[197], при написании своего труда во многом опирался на «Историю Литвы» Альберта Виюк-Кояловича[198].
Действительно, наррация Шлёцера о Пиленах во многом схожа с описание этой осады у Виюк-Кояловича. Исторический период, в котором происходили эти события, описывается Шлёцером, вслед за историком Великого княжества Литовского, как период правления Ольгерда, проводившего сдержанную политику: «Einige Jahre ruhte Olgerd aus»[199]. Немецкий историк повторил основные данные о численности литовцев в 4000 человек и о коллективном самоубийстве защитников Пиленского замка, но этот рассказ велся без добавления таких красочных подробностей, как сакральный топор жрицы. Последний сюжет был прописан в первоисточнике – в «Новой прусской хронике» Виганда Маргбургского, но отсутствовал в «Анналах» Яна Длугоша, которые были распространены в Польше и ВКЛ. Для исторической топонимии важно и то, что Шлёцер заимствовал у Виюк-Каяловича одну из форм написания названия замка – Пуня: «das schloß Pullen oder besser Punie». Эта своеобразная свобода в передаче топонимов уже в XIX в. способствовало взаимному наложению двух исторических мифов.
В целом Август Шлёцер, которого считают наиболее ярким представителем Гёттингенской исторической школы и основоположником славистики в Гёттингене[200], исходили из того, что все народы и исторические эпохи, о которых сохранились вероятные данные, заслуживают тщательного научного изучения[201]. Гёттингенский университет, где учился А. Шлёцер и куда он вернулся в 1769 г. в качестве профессора после академической работы в Швеции и России, был центром движения за превращение истории в самостоятельную научную дисциплину, что стало визитной карточкой историософской традиции эпохи Просвещения. Кроме всего, тут была предпринята попытка создания концепции Всемирной истории.
На других источниках базировался труд прусского писателя и историка Людвига фон Бачко / Ludwig von Baczko (1756–1823) «История Пруссии», изданный в Кёнгисберге через восемь лет после публикации книги Шлёцера. Фон Бачка использовал обычную для прусской историографии XVI в. форму топонима: «Pullen oder Pulleyen». Форма Пуллена использовалась Лукасом Давидом в «Прусской хронике»[202] и Каспаром Шюцем в «Прусской истории»[203]. Эти ссылки важны, потому что они позволяют нам понять, откуда фон Бачка взял детали пиленских укреплений. Этот сюжет фон Бачка сопровождал замечанием о том, что «следует приложить все усилия, чтобы познакомиться с этой чрезвычайно сильной крепостью литовцев, так как она дает нам представление об их знаниях и их боевых искусствах» (Es ist der Muhe werth, diese vorzuglich starkę Veste der Litthauer etwas naher kennen zu lernen, weil sie uns einen Begriff von ihren Kenntnissen und ihrer Kriegskunst beybringt»)[204].
Далее историграф привел количественные данные о размерах стен деревянного замка: стены имели высоту в 83 пяди / Spannen (х «20 см = 16,6 м) и толщину в 52 пяди (х «20 см = 10,4 м), ров достигал глубины 26 футов / Schuh (х «30 см = 7,8 м) и ширины 50 футов (х «30 см = 15 м) («Sie war aus dicken Rahnen erbaut, die 83 Spannen hoch und 52 Spannen dick iibereinander lagen, und von einem 26 Schuh tiefen und 50 Schuh breiten Graben umgeben wurden») [205]. Ниже фон Бачко сослался на труды прусских историографов XVI в. Лукаса Давида и Каспара Шютца. Эти сведения имеются у Лукаса Давида, но первоначально они упоминаются в «Прусской хронике» Симона Брунау[206]. Следует отметить, что историческая нарация фон Бачко имела повествовательный, литературный стиль. Как видим, фон Бачко в своих исследованиях опирался на прусские хроники XVI в. и продолжил эту традицию историописания уже в эпоху Просвещения.
Ещё более беллетризированно описание событий под Пилена-ми выглядит у Августа фон Коцебу / August Friedrich Ferdinand von Kotzebue (1761–1819). Этот немецкий автор более известен как драматург и прозаик с весьма необычной биографией – он являлся газетным агентом на русской службе в Остзейском крае, был известен своими нападками на немецкий либерализм и национализм, а погиб от кинжала студента-радикала Карл Людвига Зандта[207]. Фон Коцебу серьезно интересовался историей региона, от Пруссии до Великого княжества Литовского. В частности, он написал труд о политической биографии князя Свидригайло[208].
Самым же масштабным проектом немецкого писателя и историографа стала «История Древней Пруссии», изданная в четырех томах в 1808 г.[209] Именно на страницах этого синтетического труда фон Коцебу обратился к трагическим событиям 1336 г. и придал своему повествованию отчётливые литературные черты. «Самым удивительным событием этого [1336] рейда» автор назвал разрушение замка Пилены, который останется «лишь памятником мужеству тех язычников, достойных пера Тацита, как и лиры Гомера» («Doch die merkwürdigste Begebenheit jenes Streifzuges, die Zerstörung der Burg Pulleyen, ist und bleibt nur ein Denkmal der Tapferkeit jener Heiden, würdig der Feder eines Tacitus wie der Leyer eines Homer») [210]. В соответствии с традициями романтизма немецкий автор выражает свое сочувствие «благородным варварам», описывая их борьбу в героическом ключе: «Они сражались не только за своих богов, свою славу, свою собственность; также за то, что дороже всего человеку, за их жен и детей, заключеных в деревянных стенах» («Sie fochten nicht bios für ihre Götter, ihren Ruhm, ihr Eigenthum; auch was dem Menschen am liebsten ist, ihre Weiber und Kinder umschlossen die hölzernen Mauern»). Голоса родных им людей пробуждали мужество защитников: «So oft sie rückwärts blickten, hoben sich unbewehrte Hande um Schutz flehend auf, und wohlbekannte, an das Herz dringende Klagestimmen befeuerten thatigen, erweckten gesunkenen Muth».
У фон Коцебу появились новые детали осады Пилен – по словам автора, одну из важнейших ролей при штурме сыграли тридцать лучников рыцаря Вернера фон Рандорфа, которые выпустили 600 обмотанных пенькой и пропитанных смолой стрел: «Fast verzweifelnd starrten die Fliehenden das trozzige Holzschloß an, als Ritter Werner von Randorf, listiger als tapfer, unter seine dreyßig Bogenschützen sechshundert Pfeile vertheilte, dereń Widerhaken, mit Hanf in Pech getrankt umwunden, brenend hiniiber flogen, brenend in die Balken drangen, und an hundert stellen die Feste in Brand steckten»[211]. Стихия огня сделала невозможным защиту деревянного замка, и тогда наступила трагическая развязка, известная из более ранних источников. Фактически, литературными средствами фон Коцебу усилили драматизм звучания рассказа о защите Пилен.
Позже история Пилен получила развитие в другом крупном труде по истории Пруссии, автором которого являлся немецкий историк, профессор Кёнигсбергского университета Йоганнес Фойгт / Johannes Voigt (1786–1863). Девятитомная «История Пруссии с древнейших времен до падения господства Немецкого ордена» вышла в свет на протяжении 1827–1839 гг. Описание событий под Пиленами было опубликовано в четвертом томе масштабного труда Фойгта. В сюжете о Пиленах Фойгт обратил внимание на несколько особенностей. Возможно Фойгт был первым исследователем, который указал на различные формы написания топонимов, проанализировав варианты названия Пилены в немецкой традиции историописания – в средневековых хрониках и произведениях авторов раннего Нового времени. Фойгт, среди прочего, предложил свою локализацию Пиленского замка – северо-западнее Росейн (Raseiniai) в центральной Жемайтии: «al die altheidnische Burg Pillenen im Lande Troppen, warscheinlich in Samaiten nordostwarts von Rossiena hinauf»[212]. Предводитель пиленцев фигурирует у Фойгта уже не под титулом «король», а «князь» (Fürst Marger). Немецкий историк также продолжил прусскую традицию рассказа о старой языческой жрице с жертвенным топором: «dem Opferbeile einer alten Priesterin». Фойгт дал свою интерпретацию реакции участников орденского рейда – по словам историка, немецкие воины содрогнулись от ужасающего кровопролития и их кровь чуть не застыла, когда они вошли в замок: «Boden der gräßlichen That betraten»[213]. Ho это сопротивление пиленцев имело тактические последствия – немецкие рыцари, пораженные духом народа, не решались продвигаться дальше в земли этого края[214].
Масштабные произведения фон Коцебу и Фойгта, созданные под влиянием историографии Романтизма, заложили канон повествования о Пиленах в XIX в. Следует также отметить, что работы фон Коцебу и Фойгта опирались на прусскую историографическую традицию, но в трактовку далеких событий авторы привносили свои морально-психологические интерпретацию, что в целом являлось одной из особенностей романтической историографии.
Взрыв интереса в бывшем ВКЛНаработки немецкой историографии нашли отклик на землях бывшего Великого княжества Литовского. Но первым художественным отражением исторических событий стало полотно польского художника Владислава Константина Маерановского / Władysław Konstanty Majeranowski (1817–1874), родом из Кракова, находящегося под австрийским управлением. Эпическое полотно художника «Последняя сцена Маргера» («Ostatnia scena Margiera») (Ил. 1) выполнено в типичной для романтизма стилистике с обращением к легендарным сюжетам и с сильной экспрессией. Образ последних минут жизни языческого вождя Маргера, созданный Маерановским, стал одним из самых сильных в художественном воплощении событий в Пиленах. Символика картины Маерановского прочитывалась как антигерманская, направленная против Пруссии, одного из государств-участников разделов Речи Посполитой.
В 1837 г. появилось полотно уже представителя Виленской художественной школы Винцента Дмоховского / Wincenty Dmochowski (1805/07-1862) «Крестоносцы перед атакой замка Пуня»[215] (Ил. 2). Это произведение, среди прочего, иллюстрирует тенденцию фактического наложения двух сюжетов – события, описанные Вигандом Марбургским вокруг Пилен в 1337 г., стали переноситься на рейд 1382 г. в землю Пуня («in terra Punnow»), также описанный Вигандом Маргбургсим[216]. Дмоховский создал свое произведение в 1837 г., после возвращения на Родину по амнистии участников Восстания 1830–1831 гг.[217]. Возвращение художника совпало с 500-летнем битвы в Пиленах.

Ил. 1. Владислав Константин Маерановский. «Последняя сцена Маргера»

Ил. 2. Винцент Дмоховский. «Крестоносцы перед штурмом замка Пуня» (1837).
Историогарфическое признание пиленского сюжета во второй четверти XIX в. состоялось на страницах труда Теодора Нарбута (1784–1864) «История литовского народа» («Dzieje narodu litewskiego»). Нарбут в основном повторил канву событий, как это было описано у предшествующих авторов, но в его повествовании заметно влияние Кацебу, как, например, в эпизоде со стрелами: «И тогда крестоносеце Вернер Рандорф раздал между тридцати избранных шестьсот огненных стрел, которые за один раз огенным градом покрыли целый град» («W tern krzyżak Werner randorf rozdał między trzydziestu wybrańszych sześćset strzał palnych, które za jednym razem gradem ognistym okryły gród cały»)[218]. Нарбут обогатил свой текст подробностями о словах пророчицы и жертвеннике Зниче. Но наиболее отличительной чертой метода наррации Нарбута была гиперболизация событий, в том числе, мультипликация колличества жертв до 12 тысяч, когда к сообщённому Вигандом Марбургским числу 4 тыс. жертв, он прибавляет дважды такое же число женщин, детей и старцев: «ludu zdatnego do obrony było w Pullen cztery tysiące; zapewne dwa razy tyle kobiet, dzieci i starców liczyć można; sławny przeto ten stos pogrzebny zarazem pochłonąć musiał najmniej dwanaście tysięcy ludzi»[219]. Таким образом, Нарбутом была не столько создана, сколько героически усилена трагическая картина литовского прошлого.

