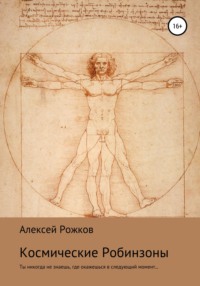
Космические Робинзоны
Музыкант встал, перевёл дыхание, вытер со лба капли пота и продолжил:
– А по большом счёту, Сашка, хотя вроде везде дефицит был, но с голоду не помирали. На 1 мая с отцом на демонстрацию ходили, с флагами, транспарантами. «Мир, труд, май». Седьмое ноября – красный день календаря, праздник Великой октябрьской революции. Несли портреты Ленина, руководителей страны, весёлые, замёрзшие, подпрыгивали на морозце. Помню сахарные петушки на палочках у площади, которые покупали у цыган, такие сладкие. Их почему-то в продаже в магазинах не было, только у цыган, и только на первое мая или седьмое ноября. Беднота была одно время такая, что обуви не найдёшь, поэтому носили её, что называется пока она до тротуара не стиралась. Однажды пошёл я на парад с отцом, а подошва ботинка одного возьми и отвались. А виду показывать нельзя, не положено, надо пройти под одобрительные взгляды вождей с ликующими массами, раскисать запрещено. Вот я и решил, как революционеры пламенные, без подошвы пройти весь парад, никому ничего не сказав. А ноябрь, холод, дождь со снегом, а я наступаю в лужи холоднющие прямо босой ногой, на которой ботинок висел только для вида, точнее его верхняя часть. Это я так в себе силу воли вырабатывал. Правда заболел потом и две недели валялся с температурой. Но ничего, выходили, советская медицина была тогда на высоте.
Рассказчика передёрнуло, как будто он вспомнил как сейчас холодно в далёкой России.
– И всё вроде шло по плану. Панельная двушка, четвёрка по математике, музыкальная школа, секция баскетбола. Родителей с утра до вечера нет дома, они на работе, а ключ от квартиры болтается на шее на верёвочке, драка на школьном дворе, продлёнка. Чем я отличался от миллионов таких же мальчишек? Да, пожалуй, ничем. Вот разве что, когда по школьной программе «Преступление и наказание» читали, врезалась мне в память одна фразочка. «…Тварь я дрожащая или право имею…». И тогда уже я начал думать над этим. Думал и всё понять не мог – как же так? Почему мы все живём одинаково, и нам хорошо… А откуда тогда мысли у людей такие? Ведь надо быть первым, стать октябрёнком, поступить в пионеры, выучить клятву, стать звеньевым звёздочки… А тут – «право имею». И свербела эта мысль меня, не давала она мне покою, понимаешь, Александр?
*****
Шурка пристально посмотрел на музыканта и увидел в его глазах нездоровый лихорадочный блеск, который делал его ещё больше похожим на иллюстрацию Родиона Романовича Раскольникова. Наверное, точно такой же блеск был у героя «Преступления и наказания», когда тот шёл убивать старуху-процентщицу. Вот хоть сейчас картину пиши.
– «Надо порыться в мешке, нет ли там топорика», – подумал он про себя, а вслух сказал, – а тебя случайно не Родином кличут? А то мы пол ночи общаемся, а так и не познакомились.
– Кстати да. А ты как догадался? – непонимающе захлопал глазами музыкант-Родион, – Потому что на гитаре «R» сзади нацарапана? Никто ещё ни разу в жизни не смог моё имя угадать.
– Ну можно и так сказать… Да… Именно по букве «R»… Как ещё я мог догадаться? – протянул Сашка.
Вот оно как значит. Реинкарнация, мать её ети.
– Ну ты Догада!
Букву «г» Родион смешно пытался произнести по-хохляцки, где-то между «х» и «г», правда получалось у него всё это почему-то печально и нисколечки не смешно. Аж всплакнуть захотелось.
– Помнишь, как в том анекдоте? Ну, когда один мужик видит, как другой мужик сидит на суку, и его под собой рубит? Нет, не помнишь? Короче первый говорит ему: «Что ты делаешь, сейчас упадёшь!», а тот знай себе рубит и посмеивается. Дорубил значит, шлёпнулся на землю, почесал затылок и отвечает: «Ну ты, мужик, Дохгада! Не колдун случайно?». Правда весёлый анекдот?
– Очень смешной, – задумчиво сказал Александр.
Этот анекдот с бородой не вызывал во нём никаких эмоций, но надо же отдать дань должного уважению и приличию. К тому же это самый простой способ расположить к себе человека – посмеяться, пусть натянуто и искусственно, над его неудачной шуткой. Сколько раз каждый из нас оказывался в ситуации, когда приятель плоско и неудачно шутит и заискивающе глядит в глаза, надеясь на смех с вашей стороны? И Вам, как бы ни было не смешно, надо выдавливать из себя улыбку и поддерживать неудавшегося сатирика.
– Так что ты там рассказывал про своё детство?
– Ну, а что детство? Детство, как детство. Самое обычное советское босоногое детство. Когда ты круглый день предоставлен сам себе, потому что родители усердно строят социализм. Воспоминания кусками всплывают. Помню ездили мы с родителями в круиз на теплоходе, путёвку дали матери на заводе, а завод-то был секретный, как, впрочем, и всё в Союзе. Помню приходишь со школы, а холодильник пустой. И не просто пустой, а шаром покати. Ни кусочка хлеба, ни капли супа, даже воды нет, авария. И только банка трёхлитровая с чёрной икрой стоит. Ну и ел я её столовой ложкой, куда деваться. Вот они гримасы социализма, жрать нечего, а чёрной икры море. Потом правда она стала стоить как космос, только одни воспоминая и остались.
А зимний салат и селёдка под шубой на Новый год? А походы через речку на лыжах и пельмени единственной пельменной в городе? Там такие пельмени были, что казалось, что это не пельмень, а заморское яство. Вспоминаю друзей школьных, товарищей, первую любовь. Эх, а поездки на Чёрное море с мамой и папой по путёвке, доставшейся по большому блату от профсоюза? А на лыжах зимой в соседний город, название которого и не вспомню уже… Горы там были большие, снежные… Тропы, лыжня, спуски, леса красивые… Да, Сашка, золотое время было, СССР. И главное чувствовали, что защита есть, что всё гарантировано. Хоть и типовое всё, бедное, серое, уравниловка, а не пропадёшь, до шестидесяти-то точно дотянешь. Такую страну просрали! Но это теперь я понимаю, а тогда всё по-другому казалось. Ветер перемен, будь он не ладен. А в пятом классе произошла со мной одна история…
Глава 4.
Дети подземелий.
В младших, да и потом в старших классах я всегда был старостой и главным школьным кассиром, потому что считался самым честным и правильным. По традиции мы собирали всем классом деньги на цирк, куда ходили по графику раз в полгода, так было положено. Хранил я общественное достояние попросту, в ранце, а сумма-то получилась приличная, рублей, наверное, пятьдесят. По тем временам ползарплаты взрослого человека за месяц. Оособых предосторожностей не было, никто ещё не воровал. В те годы мне одна отличница нравилась, Танька Худяева. Мы с ней с самого детства были знакомы, ещё в садик в одну группу ходили. Она, честно говоря, мне ещё в садике-то и понравилась, но я стеснялся с ней общаться или боялся… Красивая Танька была, как Снегурочка… Помню один момент – мы репетировали сценку в младшей группе на Новый год. Там был такой номер: я выскакиваю из-за оградки, а дальше должен выбрать себе пару из девочек и с ней танцевать танец парный, быстрый такой. Так получилось, что выскакиваю я первый из всех, ну назначили меня так воспитатели, и могу любую девочку выбрать из группы и потом с ней целый месяц танец отрабатывать, ну со всеми вытекающими, хоть женись. Вдруг слышу я шёпот за спиной мальчишек-завистников: «Ну понятно, точно Таньку выберет. Она же самая красивая. Повезло, первым назначили».
Нет, я бы так и сделал, повезло так повезло, но… Тогда я и услышал первый раз в жизни этот зудящий голос в голове, даже не голос, а ощущение. Непреодолимое желание благородства, будь оно неладно. Как будто кто-то подсказывает, подталкивает, чтобы сделать чего-то хорошего… Эх, если бы не это…, впрочем, обо всём по порядку. В нашей группе была ещё одна девочка. Невзрачная такая, в очках, с нелепыми кудряшками, всегда в одном и том же в бедненьком, ситцевом платьице, из очень небогатой семьи. Никто с ней не общался, не дружил и никто бы её не выбрал на танец. И так мне, Сашка, жалко её стало, что заиграло во мне рыцарство, и подбежал я ней, как водится, поклонился головой, взял её руку в свою, и весь месяц вынужден был быть её кавалером на танец новогодний, что мы разучивали. Танька помню посмотрела на меня в тот момент с ненавистью, видимо обиделась, гордая очень была. А потом, хоть нас жизнь постоянно сводила – и в одном классе мы учились, и гуляли в компаниях одних и тех же, а контакта с ней не было. Видимо нанёс я этим ненужным величием души обиду её самолюбию.
Сколько раз я пожалел об этом случае! Сколько раз сердце в пятки у меня уходило, когда Танька мимо проходила уже в старших классах, созревшая, красивая, да ещё умница, отличница, и при деньгах, родители у неё были какие-то там козыри. Вот так и упустил я своё счастье, Александр, во всём моё благородство, да воспитание виноваты, да голос этот в голове… А Танька потом уже на меня внимание вообще не обращала, мальчик у неё был взрослый, на машине, качок, комерс, как тогда было модно. А я что, так… одноклассник без гроша в кармане.
Но это потом, а в пятом классе я ещё питал надежду завоевать сердце признанной школьной красавицы. Пользуясь своим общественным положением кассира и старосты, я придумал хитроумный план, что возьму билеты в цирк на место рядом с ней. Мечтал, как мы будем сидеть рядом, я одену свои лучшие джинсы, белую рубашку, буду неотразим… Ну короче фантазия играла по полной, но увы моим мечтам не суждено было сбыться… Отомстила мне Танька. Как-то прознала она что ли, или почувствовала, женщины же «чувствуют», что я с ней хочу в цирке вместе, как козырь, на самых лучших местах сесть… Я же как кассир билеты покупал для всего класса и распределял. Отдал я тогда ей этот билет с напускной важностью, неприступностью и холодностью. А у самого сердце трепыхалось, как трусы на ветру на верёвке, а душа в пятки уходила от одного взгляда на неё.
*****
Помню тот злополучный вечер, как будто он был вчера. Я пришёл тогда в цирк весь разодетый, в приподнятом настроении. Целую неделю до этого ночей не спал, всё мечтал, как мы с Танькой будем вместе рядом сидеть, что я ей буду говорить, каждое слово продумал. В животе бабочки летают целыми стадами. Короче прилетел я на крыльях любви, сел на своё законное жениховское место, где рядом по моему замыслу Танькино было. А её всё нет. Я уж нервничать начал… И вдруг, уже и представление-то началось, протискивается между рядов, и идёт ровнёхонько ко мне классный двоечник, хулиган и бузотёр, но внешне очень симпатичный мальчик – Дениска Дерапонтов по прозвищу «Дера». А садится этот самый Дерапонтов ровнёхонько на самое Танькино место. Я по началу делаю вид, что ничего не происходит. Только спустя пять минут начинаю елозить на стуле, сижу как на иголках. Еле до антракта дотерпел. Не удержался, спросил Деру:
– А ты как сюда попал? Ты ж вроде денег на билеты не сдавал?
– Дак мне Танька Худяева билет свой подарила. Представляешь, ровно за час до представления, вот повезло! Сама главное позвонила и отдала, бывает же такая удача! Никогда в таком пышном цирке не был, а что, ты её что ли ждал?
– Да нет, конечно… Это я так…
Ещё больше покрасневший, уже пунцовый как рак, я сидел, вжавшись в кресло. Ни клоуны, ни собачки, ни львы, ни гимнасты под куполом цирка меня не радовали. Я, считая минуты, ждал только одного – когда же проклятое представление закончится, чтобы поскорее убежать без оглядки от стыда и позора. Вот так мне Танька-то и отомстила. А может и не специально она, может просто не замечала меня. Ох не ведала эта зазнайка, чего мне стоили эти билеты. Я же за них можно сказать жизнью рисковал, вот если бы знала она их тайну, точно бы пришла.
*****
А с деньгами на билеты, действительно произошла невероятная история, которая и перевернула всю мою дальнейшую жизнь, о ней я расскажу тебе чуть позже. Благодаря ей, уже спустя годы, я твёрдо принял решение уехать из Союза и не быть тварью дрожащей. Мы, дети Питера, советские школьники, в те годы были предоставлены сами себе. Сами ходили в школу, сами возвращались домой, делали уроки, посещали секции, бегали по дворам, гуляли где нам вздумается. Так жизнь была устроена. Спокойно было, время было не столь криминальное, как потом, в девяностые. Такие слова как «маньяк» и «похищение детей» были чем-то из ряда вон выходящим, чем-то капиталистическим, западным, а в нашей школе, в нашем дворе, такого отродясь не бывало. Хотя конечно бродили в детском народе страшилки про чёрную машину в чёрном городе, на которой было написано «Смерть пионерам». Они передавались из уст в уста, только в темноте, шёпотом, при свете свечей, чтобы было страшно, хотя все и понимали, что это просто выдумки. Страна Советов поголовно работала с утра до вечера, детей родители видели только после прихода с заводов, но несмотря на это они были совершенно спокойны, ведь весь Союз – одна большая семья. В то время в большинстве квартир не было даже телефонов, это считалось непозволительной роскошью. На крайний случай, далеко за детским садиком, стояла телефонная будка, с неработающим квадратным железным телефоном-автоматом. Внутри неё на металлической пластине был нарисован страшный дядька с оторванной трубкой в руке и написаны слова, навсегда врезавшиеся мне в память:
«Стой! Трубку не смей срывать!
Представь, у тебя заболела мать!»
Трубки тем не менее всё равно не было, как в общем-то и «двушки», чтобы оплатить разговор. Мы, советские дети, всегда выпрашивали монетки у прохожих сов.граждан:
– Дяденька, дай две копейки! Маме надо срочно позвонить!
После пяти таких дяденек аккумулировалась сумма в размере десяти копеек, а это уже, извините, капитал. На него можно было купить на железнодорожном вокзале молочное мороженное в бумажном стаканчике с деревянной палочкой. Кроме как на вокзале, во всём городе мороженного было не найти, дефицит. Поэтому ехали мы со школьной братвой на вокзал на трамвае, в котором делали вид, что бросаем деньги в кассу, а сами денежку зажимали в кулачок и отрывали бесплатные билетики. Так же мы очень любили передавать деньги на проезд от других пассажиров, пряча драгоценные три копейки в руке, отрывая тётеньке билетик, а денежку оставляя себе. В наивном и добром Советском Союзе времён застоя всё было построено на доверии. Лишь один единственный раз нас, пацанят, раскусил с билетной аферой, да оттаскал за уши какой-то военный дядька. Всё хотел в милицию сдать и родителям сообщить, да пожалел, уж больно жалостливо мы все плакали и просили:
– Дяденька, отпусти! Мы больше так не будем!
В одном из таких походов за мороженным зимой я, помнится, чуть не утонул прямо в центре города. Насшибал в очередной раз десять копеек на стаканчик, а зимы тогда были не в пример теперешним, ещё не пришло всемирное потепление. Минус сорок держались почти все три зимних месяца, что в те времена считалось абсолютно нормальным. Одевались все дети тогда одинаково – в одни и те же детские пальто серого цвета, резиновые утеплённые сапоги и шапку-ушанку, перевязанную под горлом на пришитых мамой резиночках. Пальто обязательно сверху перехватывал командирский ремень со звездой, который каждый находил в старых вещах у деда-фронтовика. Было мне тогда лет девять не больше, поехал я на вокзал за мороженным в тот день один, сошёл на конечной и пошёл по известному маршруту. Впереди встретилась мне лужица, казавшаяся небольшой, и решил я её срезать и перейти в брод, благо резиновые сапоги должны были всё стерпеть. Сделал шаг, другой, оступился и… провалился по уши, с головой. Просто ушёл под воду весь, целиком. Оказалось, что то, что с виду казалось лужей, это вовсе никакая и не лужа, а провал в асфальте, размытый порывом тепломагистрали прямо посередь тротуара. Это огромная яма, заполненная водой и ладно ещё холодной, а не кипятком. Воронка эта была не огорожена ничем и никем по тогдашней моде, а стоять такая ловушка-полынья могла месяцами и никому не было до неё дела. Всё вокруг народное, всё вокруг моё.
Представляешь, Санёк, чувствую я, затягивает меня на самое дно котлована. Вещи мгновенно намокли, тянут вниз, а пальто тяжёлое, как камень топит. Барахтаюсь я значит, как лягушка. По началу пробовал кричать, да куда там. День, на улицах никого нету, все по заводам и организациям, никто по улицам не шатается. Тогда, при Андропове, за праздные шатания можно было и в комитет угодить, и под статью попасть.
Тут бы мне и конец настал. Вода ледяная свела спазмом мышцы, силы кончились, одежда тащит вниз. Вот тут-то второй раз в жизни я и испытал это ощущение… Я узнал тогда, что у меня есть ангел-хранитель, ещё не понимая тогда, как объяснить это явление. Просто я смирился и пошёл ко дну в ледяной воронке, как вдруг в голове у меня прозвучал голос:
– «Твоё время ещё не пришло…».
И меня, обессилевшего, полумёртвого от холода, буквально вытащило что-то, плавно подвело к краю провала и помогло забраться на твёрдую поверхность.
Потом, наверное, в большей степени для себя, чтобы как-то внутри своей головы объяснить необъяснимое, я придумал историю, что вспомнил про пионеров-героев, умерших под пытками, но не предавших Родину, что непоколебимая сила воли советского пионера, как в фильме про Павку Корчагина, не позволили мне сдаться. Хотя я и плавать-то толком не умел, отец только тем летом начал меня понемногу отпускать на местной речушке, и мог проплыть я не более трёх метров. Неведомая сила подхватила меня из воды, из самой ледяной бездны, и я всё-таки сумел зацепиться за край полыньи и чудесным образом выбраться на пузе, буквально выползти, на асфальт. Потом я пытался забыть и неведомую силу, спасшую меня и загадочный голос-ощущение в голове, но уже тогда, впервые столкнувшись с мистикой, даже в столь нежном возрасте, всерьёз задумался о религии и смысле жизни.
– А ты и правда это помнишь? Ну голос, неведомую силу… Может ты всё это выдумал? – Санёк не очень верил во всю эту сказочную чушь.
– Может и так. Хочешь верь, хочешь нет, дело твоё, – Родион смотрел куда-то в сторону и был безразличен к оценке его слов.
– Ну, и что же было дальше?
– Дальше… Я вылез из провала весь мокрый с ног до головы, в свинцовом, набухшем холодной ледяной водой пальто и такой же шапке-ушанке. Если бы не было той силы, веришь, нет, но пошёл бы я, друг мой, на дно, и никто бы меня не нашёл до весны, такие дела. А в тот момент сила духа советского пионера и подвиг Карбышева не позволили мне свернуть с намеченного пути. Мокрый, трясущийся, весь покрытый сосульками от заледеневшей воды, я всё-таки стойко дошёл до огромной краснорожей тётки с заиндевевшими ресницами, в белом грязном халате, надетом на телогрейку, торгующей на сорокаградусном морозе на вокзале с уличного лотка с надписью: «Мороженое». Тётка как дракон периодически дышала паром из рта на замёрзшие руки и приплясывала в валенках на морозе, подозрительно посматривая на меня.
– Тебе чего, малец?
– Мне стаканчик молочного за 10 копеек!
– А ты в ледышку окончательно не превратишься?
– Да я не себе, тётенька, я братишке, болеет он шибко.
Я, конечно, бессовестно врал. Никакого братишки у меня не было, потому что в те годы советские граждане не могли позволить себе более одного ребёнка. К тому же кормить больного ребёнка зимой мороженным не самая хорошая идея для лечения, но тётка в нестыковки вдаваться не стала.
– Ну держи, только беги скорее домой, отогревайся! Смотри – весь промок! Где тебя так угораздило?
Представляешь какие мы были железобетонные дети? А всё почему? Потому что мороженное – это был верх наслаждения и блаженства, запретный плод, голодная детская мечта. Желание обладания им не могли остановить ни котлован, ни сорокаградусный мороз, ни промокшее насквозь пальто. И в огне мы не горели, и в воде не тонули, а росли сами по себе, как сорная трава, но никого своими проблемами не грузили. Поколение было такое, потом уже таких людей не делали.
*****
Лучшим моим другом в детстве был Андрюха Нашев, по прозвищу Рыба, с которым мы жили в одном подъезде и сидели за одной партой. Дружили мы с ним с первого класса, Андрюха был в детские годы парень неплохой, только хулиганистый. Именно он посвящал меня в самые опасные приключения и забавы тех лет, каждая из которых могла стоить жизни.
Той же зимой Рыба научил меня кататься на коротких жёлтых лыжах, очень модных одно время. Нормальных лыж было не достать, а эти короткие пластмассовые обрубки продавались везде за копейки. Кроме того, их легко было запрятать в школьный портфель или сумку со второй обувью. Основным назначением коротышей было, зацепившись за задний крюк-сцепку к трамваю лыжной палкой, ехать за ним зимой на бешеной скорости по трамвайным путям, рискуя или разбиться при торможении, или угодить под трамвайные колёса и лишиться ног. Но опасности с лихвой компенсировались тем драйвом и адреналином в детских головах, которые вызывала зимняя безумная поездка по заснеженным рельсам, поднимая облака искрящегося на морозе снега. Правда Пашку из 175-й школы на зацепе проткнуло лыжной палкой насквозь, а Михан из красных коробок лишился обеих ног. Но это так, с нашими-то пацанами ни с кем ничего не произошло.
Ездили мы на трамвайном зацепе в одно очень секретное место, мечту всех школьников тех лет – на Булку. Булкой дети называли Девятый Ленинградский хлебозавод, куда все гоняли после уроков на трамвайном коротколыжном снежном фристайле, лихо соскакивая на повороте, через три остановки от нашей школы, в месте где состав притормаживал на светофоре. Волшебный портал на Булку был открыт пацанятами из соседних дворов совершенно случайно. Хлебозавод в те времена являлся режимным объектом и охранялся не хуже военной базы. Он был обнесён высоким забором с колючей проволокой, а по периметру то и дело шныряли ВОХРовцы и собаками. По мальчишечьему сарафанному радио передавалась легенда о секретном месте, через которое можно было пробраться на хлебозавод в обход охранников, которая как бы фантастически не звучала, а оказалась абсолютной правдой. В одном из дворов, к высоченному хлебобулочному забору примыкали гаражи, и вездесущие пацанята нашли за одним из них пролом неприступной ограды, через который они стайками и просачивались внутрь вожделенной «Булки».
Глава 5.
Проще всего перейти черту, когда не видишь её.
Это место, как и много других, показал мне всезнающий Рыба, и мы стали туда наведываться чуть не каждый день. Зачем, спросишь ты? А затем, что через пролом в заборе мы выходили на один из задних корпусов хлебзавода, красное дореволюционное строение из кирпича, у которого прямо перед входом на улице периодически складировались тележки с палетками, до верху набитыми горячими городскими булками. О, городская булка! Хрустящая, вкусная, только испечённая. Это мечта любого советского школьника, одна из немногих радостей того времени. На прилавках магазинов они лежали уже мумифицированными, зачерствевшими и задеревеневшими, такими, что ими можно было забивать гвозди. И толи дело были эти свежие, румяно-белые городские булки, только что сошедшие с заводского конвейера! Их вкус перекрывал все опасности, тяготы и риск быть пойманным и попасть в детскую комнату милиции. Этот вкус был выше страха, выше всего на свете, он был тем, ради чего можно было жить.
Мы раньше уже бывали на заводе с классом, на экскурсии, организованной одним из родителей. Я видел, как весело бегут по конвейеру эти небольшие вкусные хлеба, превращающиеся в булочки из кусков теста. От одного их вида сводило живот и текли слюни, тогда всем разрешили брать с собой по одной булочке. Но толи дело получить одну булку в подарок и другое – самим залезть через забор, обмануть собак и вертухаев, набить хлебом внутренности пальто, а потом лопать украденные булки на морозе за углом, разламывая их грязными и замершими пальцами. Но что характерно, лично мне так и не удалось ни разу лично стырить ни одной булки. То к палеткам не подойдёшь, то их уже увезли, то одно, то другое, и всегда оставалось довольствовать щедростью более удачливых товарищей.
Булочный рай продолжался недолго. В один из дней охрана вместе с милицией устроила настоящую засаду на маленьких воришек. В той толпе был и я. Мне почему-то показалось очень подозрительной одиноко стоящая палетка с булками, до этого такого не было. И когда я, подбадриваемый криками пацанят, уже протянул было руку за горячим хлебом, её будто током обожгло. В очередной раз в голове я услышал совершенно чётко:
– Нет. Нельзя. Это замануха.
Я отдёрнул руку от кучи булок и под свист мальчишек убежал, как ошпаренный, напуганный неслышимым внутренним голосом, так и не взяв ничего. А потом была облава. Меня с толпой ребятишек взяли в кольцо милиционеры с автоматами и ВОХРовцы с ружьями. Тех у кого ничего не нашли, включая вашего покорного слугу, отпустили, а вот тех у кого нашли хоть одну булку, хоть крошку, наказали тогда по-взрослому. После этого случая пролом в стене заделали, завесили колючей проволокой и выставили рядом с ним дополнительный пост ВОХРы.
*****
Рыба в тот раз как-то выскользнул из рук правосудия, он вообще был удачливый, а потому урока из случившегося не извлёк, и неуёмная жажда приключений у него стала поистине неиссякаемой. Не много было у детей того времени развлечений, поэтому приходилось их делать из самых подручных материалов – найденного рядом с коморкой слесарей шипучего карбида, железных шариков из подшипников, утеплителя с заброшенных советских долгостроев. Мы часто лазили на не запирающиеся в те времена крыши домов, где играли в «слабо». На крыше самой высокой в районе местной шестнадцатиэтажки, кто-то выдумал смертельно опасную игру. Вся кровля «советского небоскрёба» была обнесена неким дизайнерским решением тех лет, рождённым в головах советских архитекторов под влиянием дружественных стран Востока. Над парапетом крыши, где-то в метре от него, периметр был окаймлён узкой трубой, на которой крепились доски, делая крышу отдалённо напоминающей китайское строение.

