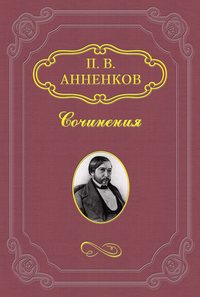
Замечательное десятилетие. 1838–1848
Одно, хотя и очень короткое время, Бакунин, можно сказать, господствовал над кружком философствующих. Он сообщил ему свое настроение, которое иначе и определить нельзя, как назвав его результатом сластолюбивых упражнений в философии. Все дело ограничивалось еще для Бакунина в то время умственным наслаждением, а так как самая многосторонность, быстрота и гибкость этого ума требовали уже постоянно нового питания и возбуждения, то обширное, безбрежное море гегелевской философии пришлось тут как нельзя более кстати. На нем и разыгрались все силы и способности Бакунина, страсть к витийству, врожденная изворотливость мысли, ищущей и находящей беспрестанно случаи к торжествам и победам, и наконец пышная, всегда как-то праздничная по своей форме, шумная, хотя и несколько холодная, малообразная и искусственная речь. Однако же эта праздничная речь и составляла именно силу Бакунина, подчинявшую ему сверстников: свет и блеск ее увлекали и тех, которые были равнодушны к самым идеям, ею возвещаемым. Бакунина слушали с упоением не только тогда, когда он излагал сущность философских тезисов, но и тогда, когда спокойно и степенно поучал о необходимости для человека ошибок, падений, глубоких несчастий и сильных страданий как неизбежных условий истинно-человеческого существования.
Бакунин сам рассказывал впоследствии, что однажды, после вечера, посвященного этой материи, собеседники его, большей частию молодые люди, разошлись спать. Один из них поместился в той же комнате, где опочивал и сам учитель. Ночью последний был разбужен своим молодым товарищем, который, со свечою в руках и со всеми признаками отчаяния на лице, требовал у него помощи: «Научи, что мне делать, – говорил он, – я – погибшее существо, потому что как ни думал, не чувствую в себе никакой способности к страданию». Действительно, полюбить страдание, и особенно в юношеские годы, трудновато.
Естественно, однако ж, что такое продолжительное умственное, диалектическое, философское пирование могло быть устроено только при одном условии: совершенного обеспечения себя от протестов со стороны людей огорченных или негодующих на жизнь, при условии осмыслить, если не узаконить все то, на что они жалуются или в чем сомневаются. Необходимо было прежде всего убедить всех, которые сильно чувствовали злобу дня, в том, что их личные, отдельные попытки осуждения современности или основ, на которых она держится, суть преступления против существующей «действительности», то есть преступление против «всемирной идеи», которая в данную минуту в нее воплотилась, другими словами, против самого «высшего разума». Спокойствие и нужное расположение духа для философирования покупались только этой ценою. И ничем другим Бакунин в эту эпоху не занимался, кроме прямых и косвенных внушений этого рода. Ему принадлежит ввод в печать нового русского презрительного слова «прекраснодушие», возбудившего такое недоумение в публике и журналах своим, действительно, не очень складным составом, которое, будучи буквальным переводом немецкого «Schonseligkeit», призвано было обозначать у нас благородные, но несостоятельные отрицания личного мышления и личного суда над современностию. Ему принадлежит распространение у нас того крайнего, чистейшего и вместе брезгливого идеализма, который с ужасом отворачивался от всякого житейского шума, смешивая под одним общим названием низших явлений субъективного духа все, что мешало ему, идеализму, заниматься спокойно вопросами о судьбах и призвании человечества: он просмотрел французский переворот 1830 года, ничего не распознал в общественном движении, наступавшем за ним во Франции (Ж. Занд, Сен-Симон, Ламэне), ничего не видал в современной ему юной Германии, уже основавшей свой орган в 1838 году: «Deutsche Jahrbucher»{22}. Он только заклеймил эти явления названием необузданных шалостей рассудочного, но не философского ума. Сам Шиллер объявлялся еще у этого идеализма, за молодые свои протесты, за свою жажду справедливости, правды, гуманности – гениальным ребенком, который никогда не мог возвыситься от теплых, хороших ощущений до спокойного созерцания идей и мировых законов, управляющих людьми, до объективного понимания предметов. Отец русского идеализма, Бакунин вместе с тем был весьма податлив и на житейские наслаждения, которыми пользовался совершенно беспечно и за которыми гнался как-то наивно, простодушно. Жизнь и философия тут не мешали Друг другу. Впрочем, следует еще раз повторить, что нигде, может быть, философский романтизм не воплощался в таком сильном, по средствам и дарованиям, представителе, каким был Бакунин. Прикрытый математически-строгими формулами Гегелевой логики, романтизм этот казался по наружности очень суровой проповедью, будучи, в сущности, только потворством и оправданием для самых утонченных прихотей мысли, наслаждающейся собой.
Для Белинского, однако же, это было другое дело: философские занятия далеко не служили ему потехой и развлечением, а, наоборот – горьким и тяжелым искусом, который он проходил с трудом и самоотвержением, надеясь обрести истину, покой для мысли и совести на конце его. Надо было привыкать к строю мыслей, открываемых новым созерцанием, и беспощадно убивать в себе всякое сомнение в нем, всякий позыв к противоречию. Философский оптимизм требовал очень многого. Путем отвлеченностей и метафизических выкладок он превращал в научные аксиомы, в философские истины и в откровения «духа» ходячие общественные начала, за малыми исключениями, почти всю современную жизненную обстановку и большую часть всех умственных и других отправлений, навеваемых и вызываемых текущей минутой.
В этом благоприятном разъяснении текущей минуты именно и заключалось преимущественно то обаяние, которое производил на всех тогдашний глубоко консервативный, религиозный, даже с мистическим оттенком, семейно-добродетельный, нравственный, музыкальный Бакунин, – такой, каким его знали до 1840 года, когда он уехал за границу из России.
С тех пор он ушел далеко; но потребность созидания систем и воззрений, обманывающих духовные потребности человека, вместо удовлетворения их, – осталась все та же, и тот же романтизм, ищущий необычайных выводов и потрясающих эффектов, слышится и в его призывах к разрушению обществ и к истреблению цивилизации, как прежде слышался в воззваниях к высшему героическому пониманию и осуществлению нравственности и человеческого достоинства.
Уже и тогда многие, как покойный В. П. Боткин, например, и сам Белинский, по временам понимали хорошо источники проповеди Бакунина. Описывая мне его личность в 1840 году, тогда мне еще совершенно незнакомую, Белинский говорил: «Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в организме»{23}. Таково было последнее впечатление, вынесенное им из долгих сношений с учителем. Но в общественном значении никто не отказывал философии Бакунина, потому что она действительно составляла прогресс в умственном развитии нашего общества и служила прогрессу. Способ понимания целей и задач жизни, ею усвоенный, заключал в себе много фантастичного элемента, но, конечно, стоял неизмеримо выше того грубого способа их представления, который царствовал у большинства современников. Смысл, который система Бакунина отыскивала не только в политических, но даже в будничных эфемерных явлениях текущего дня, действительно был произвольный и навязанный им насильно, но все-таки это был смысл, для усвоения которого следовало еще многому поучиться и о многом подумать. Положения проповеди Бакунина слишком многое узаконяли в существующих порядках – это правда, но они узаконяли их так, что порядки эти переставали походить на самих себя. Они становились идеалами в сравнении с тем, чем были на реальной почве. Нравственные требования от всякой отдельной личности носили у него характер безграничной строгости: вызов на героические подвиги составлял постоянную и любимую тему всех бесед Бакунина. Гегелевское определение личности как поприща, на котором совершается таинство самоопределения и окончательного разоблачения «творящей идеи», уполномочивало уже требовать от каждого человека самых напряженных усилий на пути развития своего сознания и нравственных доблестей. Бакунин и требовал этих усилий с вдохновением и настойчивостью, которые вошли уже у него в организм и привычку. Так, даже накануне французского переворота 1848 года в Париже, когда он сам перешел на чисто политическую арену и, сильно окрашенный польской пропагандой, приступил к подговорам, тайным махинациям и клубным мерам в известном роде, – он готов был всегда призывать людей к чистым подвигам, целомудренной жизни и идеальному пониманию ее задач. Это и заставило Герцена прозвать его тогда же (1847 год) в шутку «старой Жанной д'Арк». Герцен прибавлял, что это и девственница, но только антиорлеанская, так как питает отвращение к королю Луи-Филиппу – орлеанскому.
Человек, предшествовавший Бакунину в изучении Гегеля и даже впервые, как мы сказали, посвятивший самого Бакунина в науку, Н. В. Станкевич, никогда не доходил до полного, абсолютного оптимизма в философии. Станкевич уже и потому не мог соперничать в этом с товарищем, что, выходя с ним из одних оснований и не менее его отданный во власть романтического настроения, неспособен был, однако же, по разборчивости ума, изяществу и поэтичности природы, к грубым обобщениям. По причинам просто и чисто физиологическим, он останавливался в недоумении перед каждой скрытой и явной несправедливостью, так же точно, как и перед всяким чрезмерным увлечением. У него была поверка излишне заносчивых тезисов в чувстве меры, да к тому же он снабжен был и даром юмора, который открывал ему оборотную, теневую сторону предметов. Этого дара вовсе недоставало Бакунину. Должно считать счастливым обстоятельством для Бакунина то, что в эпоху его самой жаркой проповеди Станкевич (с осени 1837 года) и Грановский (за год до того) были за границей, а Герцен проходил первое свое удаление, сперва в Вятку, а потом во Владимир; случись они тогда в Москве, законодательная деятельность Бакунина и его декреты по предметам мышления получили бы значительное ограничение и изменение.
Остается теперь посмотреть, как все эти свойства и качества философской системы Бакунина отразились тогда на душе Белинского.
V
На первых порах влияние новой философской системы Бакунина не было выгодно для таланта Белинского. Белинский прежде всего приступил тогда в изучению схем, формул, делений – всех почти неосязаемых теней колоссального мира абстракции, называемого логикой Гегеля, и приступил с пылом и фанатическим одушевлением, лежавшими в его природе. Сделав обет ученического послушания системе, он уже не изменил своему обету до конца. Он наложил опеку на свой подвижной ум, на свое тревожное сердце, создал план, программу, почти табличку поведения для своей жизни и для своей мысли, и употреблял неимоверные усилия, чтобы отогнать от себя все наваждения врожденного ему таланта, критической и эстетической способности. Во все это время Белинского не покидало сомнение даже в праве отдаваться впечатлениям внешней жизни, своему чувству, своим сердечным влечениям. Он страдал в мысли так же, как и в способе относиться ко всему реальному в его собственном существовании. Это было уже далеко не наслаждение философией, как в период Шеллингова влияния, – это был тяжелый труд, каторжная работа, принятая на себя из надежды близкого воскрешения в будущем и потом уже радостного существования на земле, без сомнений, колебаний и томительных вопросов. Мучительный искус, добровольно проходимый одним из характеров, наименее способных к подчиненности, не кончился и тогда, когда Белинский ознакомился с учением о действительности, хотя оно, по-видимому, должно было бы освободить его от напрасных исканий идеально-совершенных правил и основ жизни. По крайней мере в литературе следы того же послушнического искуса сохраняются и в статьях его от 1838 года. Слово его, такое бодрое и развязное дотоле, становится в «Московском наблюдателе» 1838 года неопределенным, туманным, словно чахнет, занятое преимущественно выяснением философских терминов (особенно термин «конкретность» стоил ему долгих трудов и беспрестанных повторений одного и того же понятия на разное лады), переложением их на русский язык и толкованием их смысла для русской публики{24}. По временам это бедное, уже обезличенное слово старается еще придать себе вид развязности, скрыть схоластические путы, мешающие его движению, казаться свободным, смелым словом, несмотря на ту цепь, которую дозволило наложить на себя. Это были вспышки, соответствовавшие тем мимолетным протестам против теории, о которых говорено. Вообще же журнал «Московский наблюдатель», орган Белинского с 1838 года, представлял в течение нескольких месяцев печальную арену, где можно было видеть замечательного и своеобычного мыслителя в униженном положении страдальца, изнывающего и слабеющего под действием жестокой умственной дисциплины, лишавшей его сил, но которую он продолжает упорно налагать на себя, не признавая ее за наказание. Журнал истомил редактора и всех тех, которые за ним тогда следили. Многие из друзей редактора были также очень недовольны им и не скрывали своего мнения{25}. Позволю себе при этом сказать несколько слов о собственных моих тогдашних впечатлениях по этому поводу.
VI
Известно, что «Московский наблюдатель» 1838 года открывался передовой статьей Рётшера «О философской критике художественного произведения»{26}. О ней много было говорено и тогда и потом в нашей литературе, и все-таки мне приходится остановиться на ней и теперь. Статья принадлежала к числу тех чрезвычайно сухих и отвлеченных трактатов, где понятия под наторелой рукой писателя складываются сами собой в затейливые узоры, оставляя в стороне как вздорную помеху все соображения о насущных потребностях известного общества, об условиях или нуждах его существования в данную минуту. Статья определяла будущее направление журнала. Она делила критику на четыре разряда, строго отмежеванные, отдавая, разумеется, предпочтение первому – философскому отделу как заключающему в себе единственные истинные и непреложные законы для суда над произведениями. А непреложность этих законов доказывалась процессом исследования, свойственным философской критике, которая, распознав мысль художественного произведения, выделяет эту мысль из создания, развивает ее самостоятельно, по-философски, допытывается всех возможных ее выводов, и потом возвращает эту мысль снова созданию, наблюдая, все ли то сказано в образах и подробностях создания, что обнаружилось в философском анализе его. Если да – да; если нет – тем хуже для создания!
Три низшие отдела критики, то есть критика психологическая, скептическая и историческая, конечно не пользовались симпатиями Белинского. Не говорим уже о скептической, давно им презираемой, но и психологическая и историческая критики как не имеющие руководителя в абсолютных, законах, мысли и искусства ценились им весьма мало. Чрезвычайно любопытно выслушать при этом, что он говорил по поводу последней из них: «Подробности жизни поэта нисколько не поясняют его творений. Законы творчества вечны, как законы разума. На что нам знать, в каких отношениях Эсхил или Софокл были к своему правительству, к своим гражданам и что при них делалось в Греции? Чтобы понимать их трагедии, нам нужно знать значение греческого народа в абсолютной жизни человечества… До политических событий и мелочей нам нет дела» и проч.{27}.
Белинский тут просто не походил на самого себя. Между тем, в статье Рётшера, пред теми рубриками критики ставились бедные явления нашей печати и письменности, вымеривался их рост и, на основании полученных четвертей и вершков, им отводилось помещение в одном из отделов. Так поступил Белинский с сочинениями Фонвизина, которые отнес к ведомству критики исторической, вместе с изумительным товарищем – сочинениями Вольтера, а «Юрия Милославского» подчинил ведению критики психологической, придав ему тоже необыкновенного спутника и сотоварища, именно Шиллера, «этого странного полухудожника и полуфилософа», замечал Белинский. Но недостало даже таланта и опытности Белинского, чтобы к названным русским авторам приложить все требования критического отдела, которому они делались подсудны, и найти в них все те черты, которые по теории должны были в них существовать непременно. Он обещал представить это свидетельство совпадения теории с живым примером, но не исполнил обещания – и по весьма понятной причине. При осуществлении задачи либо теория должна была лопнуть по всем составам, либо примеры отбиться совсем от теории.
Зато Белинский исполнил другое. Чем более отрекался он от права личного суждения, тем более завладевали его умом мертвые философские схемы и тезисы, которые не только заслоняли перед его глазами предметы искусства, но назойливо и нагло становились на их место. Когда актер Мочалов создал роль Гамлета в Москве, Белинский написал большую статью о трагедии и о московском исполнителе главной ее роли. Как же представился Гамлет воображению Белинского? Конечно, так же, как и Гете, – человеком, страдающим бедностью воли ввиду огромного замысла, на который он себя предназначает. Но откуда эта немощь воли и сопряженные с нею страдания в лице, умеющем при случае поступать очень смело и решительно? – спрашивал себя Белинский. Ответ давался схемой. Гамлет, по ее определению, выражает собою все признаки того психического состояния, когда человек, мирно живший с собою и про себя, переходит к существованию в «действительности», во внешнем мире, таком запутанном и бессмысленном на первый взгляд. Борьба и страдания, неразлучные с этим погружением в хаос и в кажущуюся грубость реального мира, отнимают у Гамлета всю силу воли, всю твердость характера. Качества эти возвращаются к нему, когда Гамлет, после долгого, мучительного искуса, приходит к чувству покорности перед законами, управляющими этим непонятным, грозным миром действительности, к тихому убеждению, что надо быть всегда готовым на все. Таким образом, Гамлет преобразился в представителя любимого философского понятия, в олицетворение известной формулы (что действительно, то – разумно), и Белинский на этом пьедестале устраивает апофеозу как великому творцу драмы, так и замечательному его толкователю на московской сцене{28}.
Постоянные превращения живых образов в отвлечения начинают появляться все более и более у Белинского. При обозрении журналов 1839 года Белинский делает заметку о статье Губера «Фауст». Что такое Фауст Гете? Для Белинского той эпохи Фауст есть точно такая же философская схема, как и Гамлет, даже почти ничем не отличающаяся от нее. Фауст как человек глубокий и всеобъемлющий должен был выйти из естественной гармонии духа, поссориться с действительностию, к которой обратился за утешением и познанием, и после ряда кровавых испытаний, мучительной борьбы, падений и обольщений возвратиться снова к полной гармонии духа, но уже гармонии, просветленной опытом и сознанием. Он прозрел под конец разум и оправдание всего сущего. Фауст умирает в блаженстве и от блаженства такого сознания.
Как ни тяжело было, по-видимому, приложить этот способ определения предметов искусства к чему-либо, выросшему на русской почве, Белинский, однако же, не остановился перед трудностию. Я сказал, что при появлении в «Современнике» 1838 года посмертных сочинений Пушкина Белинский испытал более чем восторг: даже нечто вроде испуга перед величием творчества, открывшегося глазам его. В литературной хронике «Московского наблюдателя» 1838 года, отдавая отчет о четырех томах «Современника», заключавших неизданные произведения великого поэта, Белинский спрашивал себя: что такое Пушкин? Оказалось, что та же схема, которая служила мерилом внутреннего достоинства Гамлета и Фауста, пригодна и для определения последних произведений Пушкина. Вот собственные слова Белинского: «В самом деле, – говорит он, – чтобы постигнуть всю глубину этих гениальных картин, разгадать их вполне таинственный смысл и войти во всю полноту и светлозарность их могучей жизни, должно пройти чрез мучительный опыт внутренней жизни и выйти из борьбы прекраснодушия в гармонию просветленного и примиренного с действительностию духа. Повторяем, примирение путем объективного созерцания жизни – вот характер этих последних произведений Пушкина»{29}.
Было бы очень странно, если бы этот философский тезис, так могущественно и деспотически овладевший умом Белинского, остался без приложения к предметам политического и общественного характера или заменился там каким-либо иным, несхожим с ним, созерцанием. Непоследовательность такого различия в определениях была бы очевидным опровержением самых оснований теории, а Белинский был всегда последователен и в истине, и в минутных заблуждениях своих. Таким образом, являлась у Белинского и политическая теория, в силу которой человек, для того чтобы устроить правильные отношения к обществу и государству, должен разрешить в себе ту же задачу, какую разрешали Гамлет и Фауст своими персонами, а Пушкин – своими произведениями. Разница состояла здесь в том только, что на политической и социальной почве уже не предстояло возможности выбирать явлений, предпочитать одни другим, производить им оценку и сортировку, а необходимо было уважать и признавать их всех одинаково и целиком. Белинский поэтому требовал, «чтобы человек, не желающий довольствоваться всю жизнь призрачным существованием, вместо действительного человеческого существования, признал ложью и обманом умственные похоти своей личности, подчинился требованиям и указаниям государства, которое есть единственный критериум истины на земле, проникнул в глубокий смысл его идеи, превратил все могучее его содержание в собственные убеждения свои, и тем самым сделался уже представителем не случайных и частных мнений, а выражением общей, народной, наконец мировой жизни или, другими словами, стал духом во плоти». Белинский продолжал далее: «В духовном развитии человека момент отрицания необходим, потому что кто никогда не ссорился с жизнью, у того и мир с нею не очень прочен; но это отрицание должно быть именно только моментом, а не целою жизнию: ссора не может быть целью самой себе, но имеет целью примирение. Горе тем, которые ссорятся с обществом, чтобы никогда не примириться с ним: общество есть высшая действительность, а действительность требует или полного мира с собою, полного признания себя со стороны человека, или сокрушает его под свинцовою тяжестью своей исполинской длани»{30}.
Место это находится в разборе книги «Очерки Бородинского сражения» Ф. Н. Глинки, которая ознаменовала, как знаем, полный расцвет гегелевского оптимизма в русской литературе.
Такова вкратце у Белинского история зарождения и развития гегелевского оптимизма, которая, так сказать, прошла у нас перед глазами.
VII
Нельзя покончить, однако же, с этим периодом деятельности критика, не повторив еще раз того, что было сказано о его частых восстаниях против своих же догматов: в противность всему строю и всем заключениям признанного и усвоенного им учения из-под пера Белинского беспрестанно вырывались положения, похожие на ереси. Этими еретическими вспышками, смахивавшими на бунт против начал, угнетавших его ум, высказывались те, на время подавленные и притаившиеся, критические силы Белинского, которые ждали окончания философского погрома, чтоб явиться снова на свет в полном блеске. Не удивительно ли было, например, в самом пылу гегелевского настроения, когда так процветало благоговение к «идее» и неутомимое искание ее, – вычитать у Белинского следующие строки в его разборе плохой драмы Полевого «Уголино»: «В творчестве сила не в идее, а в форме, которая, само собою разумеется, необходимо предполагает и условливает идею, и эта форма должна быть проникнута кротким, благоговейным сиянием эстетической красоты. Величие содержания (идеи) не только не есть ручательство эстетической красоты, но еще часто оподозревает ее…» Помню хорошо недоумение, которое возбуждали в нас подобные внезапные повороты (а их было немало), наносившие более или менее чувствительные удары самим основам и первым началам найденной философской системы. Помню также, что многие из нас и обращались к автору в подобных случаях за разъяснениями этих противоречий; но разъяснения Белинского большею частию обнаруживали досаду на людей, подвергавших его экзамену, и давались, как даются ответы детям на их расспросы. «Неужто вы думаете, – говорил Белинский, – что я должен при каждом мнении справляться с тем, что сказал когда-то прежде? Да вот теперь я вас ненавижу, а через день буду страстно любить». Много было истины в этих словах. Белинский особенно боялся тогда противоречий, потрясающих новую его систему, и отзывался гневно и нервно о людях, их высказывавших; но оказывалось, что он больше всего и думал именно о таких людях. В связи с этой чертой находилась и другая, не менее любопытная. Он негодовал, становился угрюм и зол, именно когда встречал непререкаемое согласие с его положениями, хотя это и не часто случалось, точно ему недоставало тогда возражений и обличений.