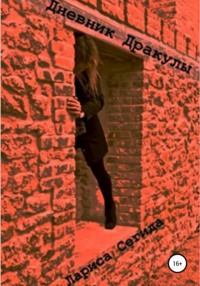
Дневник Дракулы
Моя юность наблюдала ломаную судьбу отца. Грязная политика, в которой я мужал, научила меня тому принципу, что помог мне выжить: «Пусть лучше тебя боятся, чем любят». Лицемерная любовь Сигизмунда не давала отцу никакой надежды на реальную помощь в случае местных, соседских войн в больной, разобщенной Европе. Все государства тряслись только за собственную шкуру, боясь турецкого рабства, и вполне могли быть раздавлены турками по очереди. Ни о каком сообществе или взаимопомощи не было и речи. Каждого короля или господаря волновал только он сам на троне. А турки меж тем набирали силу. Мурад II растоптал Сербию и Болгарию и готовился к подобному разрушительному походу, двигаясь на запад и север Европы.
Больше всего отец любил Валахию и меньше всего хотел крови на родной земле. Ее достоинство, честь, жизнь, ее покой были ему дороже, чем казна, что так заботило других государей. В 1437 году умер Сигизмунд, это развязало Дракýлу руки, он заключил союз с турками. Зачем? Наперекор всей Европе? Да, потому что в речах и действиях турецкого султана было больше искренности, чем у венгерского или иного короля. Мурад II принял Дракýла и триста его бояр с большими почестями как истинного валашского князя, отныне официально подчиненного ему, за что Валахия обретала турецкую защиту во всех государственных делах, а турецкая казна должна была еже-годно пополняться немалой данью. С этого момента отец попал в цепи. Преданность христианскому Ордену Дракона и одновременное подчинение туркам зажали его в тиски. Как «драконист» он должен был служить во славу христианского мира, а как трезвый политик он предвидел гибель Валахии без лояльного турецкого расположения.
А тем временем Мурад II начал набеги на Трансильванию. Он не уничтожил ее сразу, а ослаблял частыми вторжениями. Деревни и города исчезали в пожарах. Смерть шла через Валахию. Трансильванские власти взывали к Дракýловской чести, соглашались на добровольную капитуляцию перед его армией взамен жизни горожан и селян. Но Дракýл не мог противиться туркам, боясь за Валахию, но и не мог предавать клятвы Ордена. Он избрал тактику молчания. И это расценивалось как бездейственное предательство.
В 1441 году, в ноябре в Тырговиште к отцу с миссией от венгерского короля Ладисласа Постума пришли новые трансильванские губернаторы Янош Хуньяди и Николас Уджак. Они не просили, они требовали присоединиться к ним в военном походе против турок, от чего Влад Дракýл отказывался с 1438 года после заключения союза с турками. Его давили нравственные принципы, которым он как «драконист» давал клятву десять лет назад, но трезвость политика оказалась сильнее. Пойти против турок означало не только смерть собственную, чего он как раз боялся меньше всего, но и гибель княжества. Турки контролировали всю Дунайскую линию, оккупировали валашские крепости Джурджиу и Турну. Этого отцу было достаточно, чтобы понимать опасность, грозящую его княжеству в случае нарушения союза.
А венгры, в свою очередь, вели более двойственную политику: умоляя отца о поддержке, они фактически использовали его фигуру в войне с турками, приберегая в тайне на его замену Дана II, уже когда-то попробовавшего вкус валашской власти. Отец не знал об этой подлости, но нюх политика подсказал ему верный ход – он избрал позицию нейтралитета в данной ситуации, а Валахия стала свободным коридором для продвижения турецких войск в Трансильванию. Отец молчал, не помогая ни туркам, ни венграм. Это было страшное молчание сильного человека. Он бездействовал, просто открыв свои границы для прохода турок. Он совершал преступление перед совестью, но не перед своим народом. Такое непослушание было позднее жестоко наказано венграми.
В марте 1442 года в сражении под Сибиу предводитель турецкой армии Мезидбей был убит. Турки признали свое поражение. Гордый Хуньяди гнал их до Валахии, выставил отца из дворца и усадил на трон своего ставленника Басараба II. Отец опасался за жизнь своей семьи, и ему ничего не оставалось, как просить убежища у турецких покровителей. Он осознавал недовольство турецкой власти его политикой бездействия, но у него не было выхода. Выступить против венгров на стороне турок он тоже не мог.
И турки приняли нашу семью и поступили с нею благосклонно. Мы прожили в Галлиполи под домашним арестом, без притеснений, издевок и насмешек ровно год, после чего опять же с турецкой помощью отец вернулся домой князем Валахии. За свое покровительство турки расширили круг отцовских обязанностей перед ними. Помимо союзничества во всех военных и политических действиях, помимо возросшей дани, отец обещал ежегодно отправлять боярских детей в янычарский турецкий корпус. Жертвами этого долга стали я и Раду. Если красавчику Раду было безразлично, чей мед пить и на чьих коврах нежиться, то для меня турецкий плен был унизительным испытанием.
Я не виню отца – он поступил так против своей воли. Когда-то заложником у венгров оказался он сам, и тяжесть такого положения была знакома ему не понаслышке. Я помню последние дни перед отправкой в Турцию. Отец ничем не выдавал своей душевной боли, он лишь сказал, что это – этап в нашем образовании. Больше выстрадаешь – больше поймешь. Мне было почти тринадцать, Раду – восемь, когда летом 1444 года нас отправили в неизвестное. Мы превратились в заложников, и от отцовской политики зависела теперь наша жизнь.
Крепость Эгригоз на склоне горы Косиадаг стала нашим домом на четыре года. Дубовые, сосновые, ветвистые буковые леса и невысокие горы напоминали мне родные Карпаты. Природа во многом помогла пережить мне все, что выпало там, в Турции, на мою долю. Меня сразу же отделили от брата. В науку жизни и выживания пришлось вгрызаться мне, ему же – в орехи и фрукты.
В отличие от мягкого Раду, я рос вольным мальчишкой. Турецкие покровители отметили эту разницу и, конечно, избрали брата объектом своего внимания и заботы. Раду стал любимцем султанов Мурада II и Мохаммеда II и воспитывался в тепличных условиях. Я же был предоставлен сам себе, за исключением длинного списка янычарских обязанностей: изучение турецкого языка, военная теория и военная муштра, строгий режим и подчинение во всем. Последнее было едва выносимо для моего свободолюбивого духа. Большинство указов не отличались разумностью и смыслом. Из меня ежечасно и хладнокровно выбивали достоинство, гордость и княжеское сознание. Я никогда не бросался на своих мучителей. Я молчал, и камни унижения выкладывали толстые стены вокруг моего юного сердца. Я верил, что отец не бросит меня навсегда в этом плену. Содержание моей черепной коробки никого не интересовало. Единственное, что вызывало их одобрение – это точность всех членов моего тела при выполнении их команд.
Мне не давали книг, но Раду таскал их для меня тайком из султанской библиотеки. Большинство из них было на турецком языке, что послужило поводом для лучшего изучения оного. Там я впервые прочитал Коран. И что интересно. Библия и Коран, обе книги призывают к Добру и осуждают Зло. Разница лишь в частностях. Какая же из священных книг лучше и правильнее? Чья мораль сильнее и человечнее? Как разобраться темному неучу или юнцу в период своего духовного становления, какую веру принять? Церковники служат светской власти, пополняя ряды своих почитателей. А если родятся еще сыны человеческие, более мудрые, не один-два, а несколько, и им будут посвящены новые священные трактаты? Ведь мир развивается, и человек вместе с ним. И что после этого? Воевать и враждовать всем друг с другом за признание правой своей единственной книги? Нет, это слишком сложно. Власть держащим проще к одной книге приобщить целое стадо людей, как к Библии – христиан, к Корану – мусульман, тогда духовных войн будет не так много, и все они будут под контролем религиозной верхушки и государственной. А последние не любят умников и их разно-образные картины мира, их рукописи, особенно современные, не покрытые многовековой пылью общественного признания.
А люди продолжают уничтожать друг друга каждый день, разбивая чело в мольбах за Добро, – это ли не абсурд? Или книги священные написаны не так, или трактуют их ложно, или все богопослушание показное.
***
ДНЕВНИК ДИНЫ
На кровати, запутавшись в покрывале, простыне и подушках, металось тело моей бабки; оно вздымалось и падало, вздымалось и падало, как волны океана. Из бабкиного горла вырывались эти странные разнотембральные звуки, изображающие диалог между мужчиной и женщиной. Вдруг симфония достигла кульминации, тело встало дугой на постели, животом устремляясь к люстре, замерло на секунды, издало жуткий вздох и рухнуло. И в этот момент ее затуманенные глаза встретились с моими ошалевшими. Верхняя часть ее туловища поднялась резко, как палка швабры при нечаянном нажатии ногой на щетку, лицо ее перекосила презрительная гримаса, руки стали предлинными и потянулись ко мне. Я затряслась, заледенела, окаменела, вдруг вспыхнула от жара и, ударившись несколько раз о наличник двери, все же провалилась мокрой от пота спиной в спасительную щель и, как саранча, допрыгнула до своей комнаты.
Меня колотило, зубы не попадали в привычное ложе, паника совсем парализовала мое мыслящее устройство, но у меня все же хватило сообразительности подпереть дверь диваном в целях самообороны. За это она убьет меня точно или изуродует, и никто не поможет мне в этом склепе.
Я включила свет, распахнула окно, чтобы на всякий случай можно было легко призвать прохожих на помощь. Лица на медных чеканках строили мне рожицы, и в каждой из них я видела ЕЕ, САМУ!
Мне совсем не хотелось умирать такой молодой. Моя бабка хоть сына родила, а я вот нераскрытым колоском так и помру от ее же кровных рук!
Я долго бредила и пришла в себя только от прикосновения теплых солнечных лучей, впервые, наверное, за всю историю этой квартиры согревших пространство комнаты через распахнутое окно. Несмотря на чистоту и порядок, проветриванием и ремонтом здесь точно не занимались лет тридцать.
Меня никто не домогался. Она ждет, чтобы я сама пришла к ней на эшафот. Я лучше умру от голода, чем позволю ее клешням еще раз вцепиться мне в кожу.
Послышался слабый стон, мычание. Оно доносилось из ее спальни. Я могла безопасно выйти из заточения. Все, ухожу навсегда. Быстро собрала в рюкзак все вещи, документы, простилась с чудесными картинами и керамическими фигурками на этажерке и направилась к выходу.
Я уже была в подъезде, на лестничной клетке, но мычание, больное, сдавленное мычание, остановило меня. И я вернулась в квартиру, подкралась к бабкиной спальне и заглянула в замочную скважину. Кровать была пуста, только груда спутанного белья. А стон не утихал. Я приоткрыла дверь, но высовываться не стала – вдруг швырнет неподъемным антиквариатом. Только стон. Я распахнула дверь и отскочила за угол. Никаких изменений. Тогда я набралась смелости и появилась в дверном проеме.
Бабка лежала на полу, без движения, глаза закатаны, рот перекошен, ноги и руки неестественно раскиданы. Только стон свидетельствовал о ее жизни. Я, подавляя брезгливость, тронула ее. Тело не шелохнулось. Я накрыла старуху покрывалом и принялась искать телефонный аппарат. В первый день нашей встречи она о нем упоминала, хотя в пользование не предоставила.
Поиск я начала от входной двери, откуда обычно тянется телефонный провод. Желтая двужильная тесемка привела меня обратно в спальню, но исчезла за портьерами. Я отогнула угол штор и замерла. Моему взору предстали бесконечные полки с книгами, от пола до потолка и по всему периметру спальни, как я узнала чуть позже. Окна не было, оно было забито или закрыто книжными полками. Причем, стеллажи располагались в два ряда. Первый, ближний, отворялся как оконные створки и открывал другую армию полок с книгами более ценными и древними, судя по формату книг и поблекшим кожаным переплетам.
Я забыла о телефоне, о старухе. Этот склад человеческого интеллекта, спрятанный, и, по всей видимости, ненужный сумасбродной хозяйке, привел меня в шок.
Бабкин стон вернул меня в реальность жуткой ночи. Под полками, у плинтуса, я отыскала телефонную розетку. Дело стало за аппаратом – провода меня бы не услышали. Его я обнаружила под кроватью, старый, военных или послевоенных времен, наверное, с тех пор он и не включался.
«Скорая помощь» примчалась через час. Молодой врач предположил инсульт с левосторонним поражением мозга и, как следствие, потерей речи. Вид постели и нагота бабки удивили медиков, и они тактично поинтересовалась наличием у нее признаков эпилепсии. Мой ответ не просветлил их головы, и вместе с матроной, уложенной на носилки, они уехали, обещав позвонить мне и держать в курсе относительно ее состояния.
Я осталась одна.
***
ДНЕВНИК ВЛАДА

На моих юных глазах за четыре года турецкого воспитания казнили много пленных и провинившихся своих. Изощренные пытки, на которые не способен ни один зверь, придумал разум человека. Что это? Развитие природы вспять? Политика не может существовать без насилия, пока человеческий разум несовершенен. В Евангелии от Матфея сказано, что «от дней же Иоанна Крестителя доныне Царство небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его». Даже небесное царство достигается силой, что же говорить о людских распрях, когда они делят земные блага?
Мой отец метался между здравой политикой и христианскими клятвами и в этой западне чуть не потерял своих детей. Мы с Раду были заложниками его непротивления туркам, но присвоенное ему Орденом Дракона имя Дракýл обязывало отца к обратному. Папство обещало отпустить отцу грехи, если он будет участвовать в венгерском походе против султанской армии. Папский посол, кардинал Джулиано Чезарини, настоятельно требовал этого шага от отца. Влада Дракýла опять поставили перед невозможностью выбора. Один неверный поступок мог стоить наших с Раду жизней.
Осенью 1444 года трансильванский губер-натор Хуньяди и король Польши Ладислав Постум начали поход против турок и тем самым бросили вызов отцу. И снова разумная предосторожность спасла его от необдуманных действий. Отец отказался от личного участия в походе, но отправил на помощь небольшой отряд из четырех тысяч солдат под предводительством моего старшего брата Мирчи. Наши с Раду жизни висели на волоске и зависели от исхода военных действий. Отец послал трогательное письмо старейшинам города Брашов, пытаясь оправдать свою двойственную, нерешительную политику: «Пожалуйста, поймите, я позволил убить своих маленьких детей ради мира христиан. Я и моя страна – всего лишь вассал империи». Но разве политики способны слышать голос человеческого сердца?
К нашему счастью и великой беде венгров, поход закончился под Варной турецкой победой и смертью польского короля Постума и папского посла кардинала Чезарини. Турки ликовали, и это смягчило нашу с Раду участь. Любимец Мурада II, мой красавчик братец, был спрятан самим султаном в его покоях. Меня доставили туда же чуть позже по просьбе брата, за что ему низкий поклон. Теперь он восседает на моем троне и наверняка сожалеет о том детском порыве: не спаси он меня тогда – княжеский титул достался бы ему гораздо раньше. Турецкие султаны еще с тех времен прочили своему любимцу валашский трон и берегли его дражайшую персону в роскошных гаремах до моего нынешнего свержения. Раду с малолетства уяснил, что лизать пятки проще, чем шипы, есть мед из рук кормящего легче, чем добыть его самому. Свою свободу он променял на подчинение. Меня не любили, но не лишали жизни.
Каждый день я видел убийство и каждый час ждал своего. Я стал зверем с тонким чутьем в ожидании смерти, во сне и в часы бодрствования. Именно тогда я понял, что жизнь человека – самая не существенная из всех ценностей. Ею распоряжаются такие же смертные люди, а не Высший Разум. Его не волнуют перипетии маленьких созданий. Он отдал нам на поруки наши рождения и кончины. Мы слишком ничтожны и несовершенны для Его интереса и вмешательства. С тех пор я перестал относиться к жизни человека как к чему-то, имеющему божественное предназначение. Богу, Всевышнему безразличен конкретный человек. А человека, в свою очередь, волнует только личный покой, который для каждого складывается из paзныx по величине cocтaвляющиx. Но сами составляющие всегда одни и те же: деньги, здоровье и власть. Все они есть у каждого – у пастуха с его мелочью на выпивку, лихой способностью без устали гоняться за скотом и ограниченной солнечным днем властью над ним, и у короля – с его казной, мигренью и господством над людьми.
Я и Раду в плену турок подавляли волю отца. Великое благо, кое они дарили нам, сохраняя наши жизни даже вопреки отцовскому отступничеству от договора непротивления, было тем плюсом, который заставил Влада Дракýла вступить в новые переговоры.
А церковный мир обвинял отца в предательстве. Его абсолютно не волновала причина нерешительности отцовских действий в последнем военном походе, которой являлись мы, его дети. Но те же высоконравственные христиане легко простили Хуньяди его позорное бегство с поля сражения под Варной. Он дрожал за свою жизнь и бежал тайно, через всю Валахию в родной трансильванский замок. Мой отец Влад Дракýл и мой старший брат Мирча выступали на военном совете в Добрудже и требовали суда и экзекуции Хуньяди за бедствия, что претерпела христианская армия в последнем злополучном походе. Слава отца как смелого, решительного военачальника и честного господаря помогла сместить бич обвинений с него самого на Хуньяди. Позже испытанное на том военном совете унижение Хуньяди выместил на отце сполна. К этому примешивалась и давняя его неприязнь к самостоятельному валашскому князю, коим был мой отец. А отцовский брак с молдаванкой еще больше раздражал трансильванского губернатора. Отношения между княжествами Валахией и Молдовой так упрочились, что мешали полноправной власти Венгрии над Валахией. Хуньяди жаждал свергнуть отца с трона и взамен его, независимого и сильного, усадить туда слабовольную, послушную пешку.
***
ДНЕВНИК ДИНЫ
Первые два часа меня неистово грызла совесть. Моя бестактность, беспардонная провинциальность, простодырость слепили из меня дрянь, попросту говоря «глазок», то есть предателя. «Динка по прозвищу «глазок» подвела к смертному одру родную бабулечку, намереваясь захватить ее роскошные апартаменты как единственная наследница оного», – изрыгнет какая-нибудь бульварная газетка, массы осудят, соседи заклюют. Всевышний проклянет со всеми потрохами. Никому ведь не объяснишь обычное молодое любопытство и нетривиальность родственных отношений. Хотя, быть может, мысли о бабкиной смерти пока преждевременны, а придуманные мною последствия сильно преувеличены. На такие тумаки, какими старуха щедро меня награждала, способен разве что крепкий, а не трухлявый организм. Думаю, все обойдется, и хозяюшка вернется под родной кров. Она, может, и заболела-то первый раз за всю свою жизнь!
Ну, все. Хватит заниматься разлагающим душу самобичеванием. Любопытство – стимул к познанию. Совесть же часто гундит без надобности, чтобы только тем самым напомнить лишний раз о своем существовании. Надоели красивые слова о правильности, пора действовать без оглядки на нудный внутренний голос. Может, старуха и мужа своего на тот свет отправила? С такой разве проживешь?! Выведу ее на чистую воду. Заносчива до неприличия. Не барыня ведь, а ведет себя, будто торчит рубиновой звездой на вершине кремлевской елки. Всё. Начинаю тщательнейшее изучение всего квартирного пространства.
Библиотека меня сильно волновала. Но я оставила ее на сладкое как самое желанное.
Возле музыкальной гостиной, тоже в нише, я обнаружила невысокую дверь, будто в чуланчик или кладовую, из замка которой торчал ключ. Забыла его спрятать от меня!
Дверь легко открылась, и я увидела аккуратный вещевой и продовольственный склад. У одной стены стоял широкий комод и платяной шкаф с бабкиным гардеробом.
Фасоны и ткани платьев привели меня в восторг. Черный панбархат в виде цветов на канареечном шифоне, сиреневый крепдешин в неимоверных складках, бело-снежная парча с американской проймой и открытой до ягодиц спиной. Далее висели шубы: белая короткая котиковая с муфтой, голубая из норочки, прямого покроя и с огромным королевским воротником, черная из каракульчи, расклешенная в пол, и пастельных тонов габардиновые пальто. Но самой классной вещицей оказался лимонного цвета лайковый плащ с искусственным под леопард шалевым воротником, черными металлическими пуговицами с изображением готического замка.
Внизу на полочке в полиэтиленовых мешочках стояло несколько пар дамской выходной обуви: черные бархатные туфли с бантом, отороченным золотом, бежевые на высоком, толстом, прозрачном каблуке из оргстекла, туфли с вышивкой по коже и ткани, с люрексом, бисером, на каблуках в виде рюмочки, шпильки, даже в виде песочных часов – создавалось впечатление, что это гардероб театральной актрисы ранга Марлен Дитрих.
Комод был начинен шелковыми и фильдеперсовыми чулками, тонким, очень изящным заграничного производства женским бельем, заботливо проложенным ароматическими салфетками и мешочками с лавандой, шифоновыми шарфами ярких расцветок и прочими интимными дамскими вещицами.
Еде, которой, казалось, нет места в бабкином существовании, был уделен сундук, обтянутый кожей, с парой узорных замков-пряжек. Внутри него я обнаружила склад сухих и законсервированных полуфабрикатов иностранного производства, но что самое забавное, – военного времени! Все было любовно уложено и на-поминало музейный экспонат. Чем (если она не при-касалась к этому) бабулька питалась и где – оставалось для меня загадкой. Кухни в квартире я так и не обнаружила. Возможно, это помещение когда-то было кухней, на что намекала вентиляционная запыленная сетка под потолком.
Я вернулась в бабкину спальню. Судя по ее шмоткам, кокетка она была еще та! Про деда своего я ничегошеньки не знала, кроме того, что кто-то ведь зачал моего отца и дал ему отчество Михайлович, Прометей Михайлович, а я, стало быть, Дина Прометеевна. Смешно. «Отпрыск дарящего огонь» – надо было так и записать в графу о моей национальности.
За дверью спальни я нашла механизм, контролирующий положение портьер. Я нажала кнопку, они раздвинулись и явили мне чудо из нескольких тысяч томов. Библиотека не пестрела разноцветными подписными корешками: темные в кожаных переплетах издания довоенного, дореволюционного, «до» и еще раз «до» времени были ее жителями. Уйма словарей – русско-немецкий по анатомии, немецко-русский по биологии, русско-английский по химии, русско-венгерский и венгерско-русский, латинско-венгерский, энциклопедические по астрономии, астрологии, философии, демографии, лингвистике, фразеологические, этимологические, словари идиом, обратных слов на разных языках, справочники по древнерусскому, валашскому языкам, латыни, книги по грамматике, стилистике, исторические хроники венгерских королевских писчих на латыни. Да-да, я вспомнила, что вся феодальная европейская литература пользовалась не национальными языками, а латынью. Далее альманахи научных исследований по истории восточно-европейских стран. Две полки медицинской литературы. В целом же библиотека представляла поле деятельности лингвиста, историка, энциклопедиста-эрудита с глобальной исследовательской задачей досконально изучить прошлую культуру, высветить в ней неизведанное и тем самым удивить современный пресытившийся информацией и открытиями мир. Похоже, все эти книги действительно изучали, в отличие от большинства книжных спортсменов-коллекционеров, – во многих из них виднелись пожелтевшие закладки с надписями на непонятных мне языках.
Раздался телефонный звонок. Из больницы. Состояние бабки тяжелое, тело в коме, гипертонический криз, капельница, кислород, все чудеса реанимации. Никаких посещений, чему я была только рада.
В этот день я просвещала свой невспаханный мозг в ее библиотеке, без обеда, в полной изоляции от внешнего мира, в шелковых стареньких перчатках, возможно, дедовских, предназначенных специально для работы с книгами. Перчатки выдавали форму рук их хозяина. Длинные, тонкие пальцы, узкая ладонь – полная противоположность бабкиным артритным крючкам-коротышкам.
Книги располагались в строгом национальном, тематическом и хронологическом порядке. Большая часть их была на венгерском языке. Некоторые имена, написанные на корешке, помимо венгерского, на латыни, мне удалось прочесть: Петер Борнемиса, Шебештен Тиноди Лантош, Миклош Зрини, Янош Апацаи Чере, Маргит Кафка, Геза Гардони, Леренц Сабо.
После изучения ближних стеллажей я приступила к дальним, которые прятались за первыми, как за створками шкафа. Здесь покоились старинные оригинальные издания с шестнадцатого по девятнадцатый век. Некоторые из них были в пластиковых пакетах. На одном таком пакете, я заметила написанную масляной краской цифру «1», пониже был приклеен кожаный ярлычок с выходными данными книги: 1473, «Cronica Hungarum», Бyда, типография Андраша Хесса. Я не стала совать свой любопытный нос внутрь фолианта, потому как помнила о существовании особых правил обхождения с предметами древности. Соблазн был велик, но остатки разума упредили меня от возможной глупости. Не исключено, что это первая печатная книга Венгрии, а, следовательно, ценность ее безмерна, и лапать это сокровище без специальной подготовки – идея не лучшего сорта.