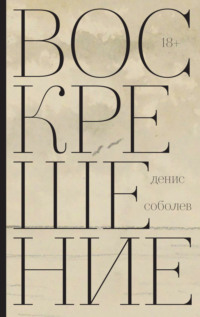
Воскрешение: Роман
– А правда зеленый может быть совсем разным? – заметив это, спросил Митя папу; тот кивнул.
Земля казалась густой и вязкой. К городу незаметно подступало лето.
Еще из того года запомнилось, как безо всяких предисловий папа неожиданно и довольно сказал, что приедет его московский брат со своей нынешней женой и их дочерью, Полей. Тетю Лену и дядю Женю Митя знал хорошо, на разных этапах относительно много с ними виделся, а вот Аря помнила их смутно; с Полей они тоже были знакомы, хотя еще более смутно. Несколько раз они были в Москве, один из них проездом, да и жили у бабушки Ани и дедушки Ильи; как-то тетя Лена привозила Полю в Ленинград, но и это тоже было бегом. Однако на этот раз тетя Лена и дядя Женя собирались приехать с вполне конкретной целью. Митя узнал, что все они, включая московскую родню, собираются пойти на «Ленфильм».
– Вам тоже будет интересно, – сказал отец, но потом добавил с некоторым сомнением: – Надеюсь, что детей пропустят.
– А кто она вообще такая? – недоверчиво спросил Митя.
– Актриса, – сказала мама. – Мог бы уже знать.
– Как черепаха Тортила? – спросила Аря, но мама только поморщилась.
Как обычно в таких случаях, вступился папа:
– Ее зовут Элизабет Тейлор. В наше время ее знали не меньше, чем черепаху Тортилу. Пожалуй, даже больше. Она даже играла царицу Египта. Вот Лена и хочет на нее посмотреть. А остальные решили ехать вместе с ней. Поедем в Пулково их встречать.
– А почему у нее такое имя? – с подозрением спросил Митя. – Она что, иностранка? Как Эдита Пьеха?
– Она совсем иностранка, – сказала мама. – Из Америки. И великая актриса.
– Тогда почему она здесь? – не унимался Митя.
– Потому что она недавно снималась на «Ленфильме». В фильме «Синяя птица». И, вероятно, будет сниматься снова.
Все это было не очень понятно, но увидеть, как делают фильмы, тем более с великой актрисой, все равно очень хотелось. Еще через пару дней Митя понял, что после всех этих разговоров он уже ждет небольшого чуда. В Пулково они действительно поехали, а вещей у их московской родни было столько, что казалось, что они тоже собираются сниматься на «Ленфильме». Митя даже ехидно подумал, что багажник закрыть не удастся, но, как оказалось, он плохо представлял размеры багажника.
Мама и Аря ждали их дома.
Поля внимательно обошла и осмотрела квартиру, повалялась на диване, выглянула в окошко большой комнаты.
– Мне она не нравится, – вечером тихо сказала Аря.
– Мне тоже не очень, – ответил Митя. – Но она наша кузина, – добавил он наставительно; ему иногда казалось, что он за Арю отвечает и должен читать ей нотации. Арина этого не переносила.
Поля оказалась избалованной, непредсказуемой и постоянно требовала к себе внимания. Чем-то неуловимым она была похожа на их московского двоюродного брата, сына дяди Жени от первого брака Леву, которого они знали чуть лучше; но если в словах и действиях Левы постоянно скользила обида, Поля вела себя так, как будто ей еще никто не рассказал, что мир создан не только для нее. А вот ее родители, наоборот, были теплыми и заботливыми, особенно тетя Лена; удивительным образом, их заботы хватало не только на Полю, но и на Арю и Митю. Привыкнув присматривать за Полей, они как-то очень быстро перенесли заботу на Арю и Митю; этого тепла и внимания хватало на всех, и никто из них не чувствовал себя обделенным. А еще Полины родители регулярно покупали им всем мелкие подарки. Митя видел, что мама от этого морщится, но молчит.
– Портить чужих детей дело нехитрое, – как-то сказала она отцу, сказала тихо, но Митя все равно услышал.
А вот с Элизабет Тейлор получилось странно. Арю с собой не взяли, как слишком маленькую; отвезли ее к дедушке и бабушке, и она обиделась. Встретить их у проходной вышел кто-то совсем уж незнакомый, но все же пропустили. Даже из тех любопытных, которым по разным причинам и по большей части после основательных усилий разрешили в тот день прийти на «Ленфильм», собралась изрядная толпа. Элизабет Тейлор прошла мимо них, напоминая небольшое довольное собой облако, но в ней не было никакого чуда, никакого секрета.
– На съемочной площадке она будет совсем другой, – уверенно сказала мама.
Но узнать, так ли это, им не удалось; через несколько минут съемочный павильон наглухо закрыли; им только и оставалось, что бесцельно бродить по территории киностудии, нарываясь на раздраженные оклики, пока, наконец, тетя Лена не сказала разочарованно, что, похоже, стоит вернуться домой. Митя чувствовал себя немного обманутым, как будто ему лично пообещали чудо, а чуда не только не произошло, но было вовсе непонятно, кто и почему решил, что оно вообще могло произойти. А вот Поля совершенно не выглядела разочарованной. Казалось, что, наоборот, теперь ей достается еще больше внимания и она этим очень довольна. Тем временем с Петроградской повидаться с московскими приехали дедушка и бабушка, разумеется вместе с Арей.
– Элизабет Тейлор совсем не такая красивая, как в фильмах, – разочарованно заметила тетя Лена. – И вообще ей было бы неплохо похудеть.
– Она великая актриса, – сказала мама.
– И ради этой толстой тетки мы летели в Ленинград? – вмешалась Поля со странным выражением, как будто говорившим: «Я вас предупреждала». – Ну тогда давайте хотя бы сделаем что-нибудь замечательное.
« 2 »Они решили собрать железную дорогу. Ради Поли Мите и Аре разрешили разложить ее гораздо шире, чем обычно, – занять ею всю большую комнату, протянуть ветки в спальни и даже через коридор в ванную. Только кухню им запретили занимать; там остались взрослые. Железной дороги у Поли не было, так что этой идеей она загорелась тоже. Митя объяснил ей, что гэдээровские домики к железной дороге нужно собирать и клеить самим; они продаются много где, но больше всего и самые необычные и удивительные домики надо покупать в ДЛТ. Что такое ДЛТ, Поля тоже не знала, но ее это и не волновало; на ее глазах возникала целая страна. Они позвали нескольких соседских детей, включая, разумеется, Митиного друга и соседа Лешку, принесших и свои рельсы, и свои дома, и солдатиков, и даже грузинских каучуковых десантников и ковбоев. Дома расставляли вдумчиво, старательно, чтобы было похоже на настоящие городки и деревни; например, вокзалы или депо действительно примыкали платформами к рельсам, а не изображали непонятного назначения сооружения, вроде тех, которые можно было иногда обнаружить в ленинградских предместьях или окрестных совхозах. В палисадниках росли деревья, на газонах и подоконниках светились яркие цветы; ящики с цветами они с Арей когда-то приклеили к окнам так аккуратно, что они казались настоящими. На платформах висели расписания поездов; на магазинах – афиши. Стрелки старались устанавливать так, чтобы дополнительные ветки вели в другие комнаты, а не просто упирались в случайные глухие углы.
– Это же целая страна! – закричала Поля.
А когда Митя начал медленно поворачивать ручку блока питания и на недавно проложенных ветках железной дороги пришли в движение первые поезда, пассажирские и товарные, Поля подпрыгнула и захлопала в ладоши. Теперь уже и взрослые не удержались и пришли посмотреть.
– Это наша страна, – восторженно объясняла им Поля, – наша собственная страна. Мы выстроили собственную страну. – Потом повернулась к родителям. – А почему у меня такой нет? – с легкой обидой спросила она. – Я тоже хочу свою страну. И еще почему нет людей? Где все люди?
– Люди сейчас будут, – начальственным тоном сообщил Митя. – Но вообще-то они, наверное, как в будущем, все работают или делают что-нибудь хорошее, и никто не слоняется просто так.
– Я не хочу работать, – сказала Поля. – Даже в будущем.
– В будущем, – объяснил Митя, – все будут делать только то, что хотят сами. И тебя тоже никто не станет заставлять работать. Ты будешь хотеть сама.
– Не понимаю, – вмешалась мама, – где ты только успеваешь набраться всей этой чуши. Просто хоть не выпускай тебя из дома.
– А еще в будущем, – важно добавил Митя, указывая на ветвящуюся железную дорогу, – будут самодвижущиеся дороги. Как у нас сейчас.
– И гигантские статуи Ленина, – продолжил Леша, – как у Финляндского вокзала. Между прочим, пока у нас нет ни одной.
Мама снова поморщилась. Тем временем один из Митиных приятелей расставлял грузинских каучуковых ковбоев; бандиты собирались напасть на поезд. За неимением лучшего, а может, из-за недопонимания Арина расставила «свиньей» большую оловянную группу псов-рыцарей и ополченцев Александра Невского. Вперемешку они двигались в сторону кухни. Когда все были расставлены, Митя повернул ручку блока питания до упора, и от мягкого медленного движения поезда и отдельные паровозы перешли к быстрому бегу. Один из паровозов неожиданно потерял вагоны и почти мгновенно исчез в спальне, Аря побежала за ним; другой почти сразу же перевернулся на неудачно выстроенном развороте.
– Целый мир, целый мир, – восторженно повторяла Поля.
Аря вернулась из спальни. Леша начал передвигать каучуковых ковбоев. Они явно замышляли что-то злодейское и противозаконное.
– Интересно, – вдруг сказала Аря, – а что за ним?
– За кем? – спросила Поля.
– Ну за этим миром?
Поля удивленно на нее взглянула:
– В каком смысле? Там же ваша кухня. А тут выход на балкон.
Аря посмотрела на Митю тем особым взглядом, который говорил: «Она ничего не понимает». Митя кивнул.
– Там весь мир, куда нас не пускают, – объяснила мама.
– Наверное, – возразила бабушка, но как-то непонятно, то ли детям, то ли взрослым, – до того, как спрашивать, что далеко, надо узнать, что рядом. Иначе этот вопрос вообще не имеет никакого смысла. У вас же теперь целая страна. Исследуйте ее. Достраивайте ее. Храните ее.
Поля заинтересованно на нее посмотрела. Тем временем, снова вынырнув из спальни, гостиную начал пересекать длинный товарный состав.
– Уходит поезд, – грустно сказал дед.
– Что-что? – спросила Аря, вероятно что-то почувствовав.
– Есть такое стихотворение, – ответил он. – Ты слышишь, уходит поезд.
– Я не слышу, – сказала Аря.
– Ты еще услышишь. Не знаю, к счастью или к сожалению, но ты не сможешь никуда от этого деться. Это как стук сердца. Тук-тук-тук. И, услышав однажды, уже невозможно перестать слышать.
– А что потом? – спросила она.
– Ты слышишь, уходит поезд, – ответил дед. – Сегодня и ежедневно.
Митя ничего не понял, но что-то подсказало ему, что переспрашивать не следует.
« 3 »Той осенью произошло событие, оставившее свой след почти на всем случившемся в дальнейшем, хотя, разумеется, тогда ни Арина, ни Митя не были способны ни понять его смысл, ни оценить его значение для будущего, еще не свершившегося во времени, хотя, конечно, уже свершившегося и пребывающего в вечности. Было тепло; шел редкий и мягкий снег, он кружился в воздухе, оседал на асфальте и сразу же таял, образуя мокрую, чуть хрустящую и быстро превращающуюся в воду массу. Они шли к Большому залу филармонии от метро «Невский проспект»; когда-то бабушка рассказала им, что именно здесь играли «да, именно ту», когда их Ленинград умирал от голода и на него сыпались бомбы.
Тот вечер уже не был открытием сезона, и все же еще на подходе, около огромных афиш, очерчивающих ближайшее будущее, чувствовалось легкое возбуждение. За лето многие стосковались по музыке и проходили мимо афиш неровным прерывающимся шагом, задерживаясь, изучая, пытаясь решить, на что бы еще прийти в ближайшие дни или недели. Несмотря на то что у родителей был абонемент, у афиш задерживались и они, а Арина и Митя убегали дальше, вперед; так и дошли до угла. Впереди, через дорогу, окруженный уже облетевшим сквером, стоял еще юный Пушкин, вдохновенно и самозабвенно обращавшийся к их общему городу и миру. Позади Пушкина, в темном осеннем воздухе, в безупречной внутренней гармонии в обе стороны уходило огромное здание Русского музея. Ярко горели фонари. За углом, на тротуаре, на краю площади, было не только людно, но почти тесно; здесь были вынуждены замедлять шаг. Вход в бывшее Дворянское собрание был относительно узким, двери тяжелыми, шапки почти все снимали еще перед входом, а в теплом предбаннике начинали разматывать шарфы и расстегивать пальто. Резко и отчетливо дохнуло теплым воздухом. Внутри было не просто тепло – скорее даже жарко.
Они оказались перед знакомой широкой белой лестницей, и в сердце у Арины чуть защемило; она любила здесь бывать, хотя никогда не спрашивала себя почему.
– Наконец-то нормальные лица, – все еще недовольно сказала мама.
– Да будет тебе, – примирительно ответил папа. – В метро всегда тесно.
Они знали, что он не любит разговоры о людях «своего» и «не своего» «круга».
Как всегда, было много знакомых; здоровались еще на лестнице, но старались не задерживаться подолгу, чтобы не мешать общему движению. После Москвы Андрея все еще продолжало удивлять, что Ленинград, в сущности, относительно небольшой город; по крайней мере, «их Ленинград». Но пришли они поздновато, и в гардеробе стояла очередь. Переобулись; входить в филармонию в мокрых или заснеженных ботинках никому, наверное, не пришло бы в голову. Арина подумала о том, что Митя как-то долго возится со своими башмаками. Папа собрал их пальто, шапки, шарфы, пакеты с сапогами и ботинками; получилась увесистая охапка. Они остались в очереди вместе с ним, а мама отошла к зеркалу. Папа аккуратно отдал всю эту охапку гардеробщику, потом чаевые; положил номерки во внутренний карман пиджака. Когда-то Арина спросила, почему в филармонии надо давать гардеробщикам чаевые, а в кино, например, никому и никогда.
– Так принято, – ответила мама.
Она и вообще обычно Арине мало что объясняла, и это было обидно.
Потом вернулись на лестницу и поднялись в фойе; у входа в фойе купили программку.
– Я тоже хочу, – сказала Арина.
Папа заплатил еще за одну; Арине сразу же ее и отдал. В программке, как всегда, не было ничего интересного; только «анданте» и «аллегро нон троппо», которые она и так видела почти ежедневно. Когда-то Арина спросила маму, почему в Кировском театре к программкам на отдельном листке прикладывается краткое содержание; и в тот раз мама даже попыталась объяснить.
– Потому что, – ответила она, – на балет могут прийти люди, которые не знают, что во время балета произойдет, и нужно помочь им подготовиться.
– А в филармонии, – снова спросила Арина, – все всегда заранее знают, что произойдет?
– Потому что в филармонию такие люди прийти не могут, – как обычно, теряя терпение, ответила мама, и Арина подумала: «Ну так всегда». Мама никогда ничего ей не объясняла; наверное, не хотела.
В фойе было не только очень тепло, но и очень светло; нарядно одетые люди двигались по кругу, против часовой стрелки, тихо переговариваясь, временами уходя в боковые проходы. Постепенно фойе пустело; начали рассаживаться. Отправились к своим местам и они; места были абонементные, давно знакомые; если бы потребовалось, к ним можно было бы пройти и в темноте. Но в филармонии свет не гасили.
– А почему в кино свет гасят? – тоже когда-то давно спросила она маму.
– Для музыки не нужно гасить свет, – ответила мама.
Тогда Арина обиделась; и только потом она поняла, что в тот раз мама действительно ей ответила. Музыка была видна и светилась сама, и, чтобы ее увидеть, темнота совсем не была нужна. Надо было только вслушиваться; и тогда слух становился зрением.
Но сейчас она и так вся была зрением. Низкие люстры, белые колонны с коринфскими капителями; красные бархатные кресла. Все как всегда. В тот момент она остро ощутила, что лето подошло к концу. Митя болтал с родителями, но Арина, пожалуй, не смогла бы внятно объяснить, о чем они говорили. Она смотрела на седые затылки в первых рядах; вышел и сел оркестр; кто-то откашлялся. В зале еще продолжали переговариваться, но как-то постепенно и, наверное, незаметно для себя переходя на шепот. Потом резкими, уверенными шагами вышел Мравинский, безо всякого позерства; казалось, он идет где-нибудь по дорожке у себя на даче. Было известно, что он дворянин, но при этом не антикоммунист. Мама этим возмущалась: «Как человек из интеллигентной семьи может быть коммунистом?» – как-то сказала она.
Мравинского боготворили. Зал зааплодировал. Наступила недолгая пауза. Мравинский приподнял руки и резким движением, как бы отталкиваясь от воздуха, очертил границу между осенью и музыкой, между зрением и слухом. Его движения не были драматичными, временами оставаясь едва заметными, и, как казалось, оркестр следовал за ними так легко и уверенно, как будто сам Мравинский был всего лишь внешним духом оркестра. Музыка наполнила все, и Арина перестала видеть; она следовала за музыкой шаг за шагом, концентрированным и ясным усилием ощущая контуры ее мгновенного движения и их место в неуловимом в каждый отдельный момент величии общего единства. Только иногда, слишком внимательно следуя за одной из линий контрапункта, она упускала вторую, а потом мысленно пыталась восстановить их диалог, ту цельность, к которой они принадлежали, но отвлекалась и теряла обе. В такие моменты ей удавалось вернуть себя к движению музыки только после внутренней паузы и с мгновенным ощущением того, что она пропустила что-то очень существенное, что теперь уже не вернуть и не нагнать. Но музыка двигалась дальше, и это чувство быстро забывалось.
« 4 »В начале антракта, когда все стали подниматься и поворачиваться, среди седых голов первых рядов Арина увидела дедушкиного друга Петра Сергеевича. Она не видела его уже больше года, но все равно почти мгновенно узнала. Тихо дернула Митю за рукав; «Тс-с», – сказал он, ему хотелось пирожных; здесь, в филармонии, была кофейня с хорошей кондитерской. Но мама уже проследила за их взглядами. «Надо подойти поздороваться», – сказала она как-то без выражения. Они вышли в проход и, двигаясь против движения, подошли к Петру Сергеевичу; с ним была девочка приблизительно Митиных лет. Арина не сразу ее узнала, потом поняла, что это внучка Петра Сергеевича, а узнав, вспомнила, как ее зовут.
– Рад вас всех видеть, – сказал Петр Сергеевич, улыбаясь. – А это моя внучка. Катя. Да вы же с ней знакомы.
– Катя, – повторила она, смущаясь, как показалось Арине, еще больше, чем раньше, и левой рукой откинула за плечо светлые волосы.
В ней было нечто неуловимо раздражающее. «Разве что книксен не сделала», – подумала Арина.
Медленно двигаясь вдоль прохода, а потом в сторону фойе, они поговорили об общих знакомых, о погоде, о настроениях в городе, о дирижерской интерпретации.
– Мравинский, конечно, гений, – сказал папа, – но, на мой вкус, в данном случае слишком жестко.
Арина мысленно с ним согласилась, хотя еще минуту назад думала иначе; она часто с ним соглашалась.
– А мне показалось, – возразил Петр Сергеевич, – что он как раз обнажил самое существенное, самую основу замысла. Некое гармоническое основание мысли. Как бы очистил его от всего, что могло бы отвлечь.
– В том числе и от чувств, – сказала мама. С ней Арина не согласилась; она еще помнила, как десять минут назад была полностью захвачена услышанным.
Внучка Петра Сергеевича молча улыбалась. За разговором они даже не спустились на первый этаж, так что не дошли и до буфета; но казалось, что про пирожные Митя уже забыл. Начали возвращаться в зал; Арина и Митя отправились провожать Петра Сергеевича и Катю до их мест. Петр Сергеевич попросил передать привет дедушке. Пропустил перед собой Катю. Уже сидя, снова обратился к Арине и Мите, вполоборота. Но не успел он сесть, как, разве что не растолкав Арину и Митю, к нему обратился незнакомый им человек. Поздоровался с Петром Сергеевичем, похвалил концерт и сразу же, почти скороговоркой, даже с некоторой обидой, рассказал, что неделю назад по ошибке попал на второй состав филармонического оркестра. Потом сказал, что «скоро начнут», и так же быстро и необъяснимо ушел.
– Дедушка, почему он тебя перебил? – спросила тогда Катя. Арине показалось, что Катя заговорила впервые, и этим она вызвала у Арины еще большее раздражение.
– Не обращайте внимания, – примирительно ответил Петр Сергеевич. – У него не очень хорошие манеры, но он выдающийся математик. Он сделал несколько эпохальных открытий. При случае я вам про него расскажу.
Сияли люстры; слушатели начали рассаживаться. Арина тоже попрощалась и стала возвращаться к родителям. И, только пройдя уже большую часть пути, она неожиданно обнаружила, что рядом с ней нет Мити; как это ни странно, он все еще разговаривал с Петром Сергеевичем и Катей. Сама Катя давно уже сидела на своем месте, тоже повернувшись к Мите вполоборота, а он продолжал с ней говорить, перегнувшись через спинку незанятого места. Арина удивленно и непонимающе взглянула на него, но Митя даже не заметил ее взгляда. Она увидела, что две сидевшие в следующем ряду седовласые дамы почти одновременно развернулись и с осуждением посмотрели на всех троих; Арина была полностью на их стороне. Петр Сергеевич что-то тихо сказал Мите, тот кивнул и побежал в сторону родителей. Но, пробежав приблизительно полпути («Куда смотрят его родители», – услышала Арина чье-то удивленное замечание), он неожиданно остановился и, снова повернувшись к ним обоим, замахал Кате. В этот момент Арина почувствовала странный укол, знакомый и незнакомый; так бывало, когда родители не обращали на нее внимания. Она не знала, как назвать это чувство, и, как ей показалось, быстро о нем забыла.
Снова вышел Мравинский, зал зааплодировал. Коротким жестом Мравинский прекратил аплодисменты, взмахнул рукой, и в образовавшуюся беззвучную пустоту вернулась музыка. Неожиданно для себя Арина поняла, что в этой музыке было то, чего она никогда не могла достичь, когда играла сама; и дело было не в технике. Она знала, что играет не очень хорошо, даже для своего возраста, и это совершенно ее не расстраивало. «Эта белобрысая, наверное, лучше меня играет», – подумала Арина, все еще раздраженно глядя в сторону седой головы Петра Сергеевича и его внучки, которую было едва видно из-за спинки кресла. Дело было и не в том, что звук ее фоно невозможно сравнить со звуком оркестра; никому бы не пришло в голову их сравнивать. Наверное, думала она потом, дело было даже не в гении дирижера. И все же в эти минуты она ощутила что-то такое, чего никогда не ощущала раньше. Впоследствии она часто возвращалась мыслями и чувствами к этому переживанию, пытаясь найти, но так и не находя для него нужных слов.
То многое, случайное, изменчивое и текущее, что она так часто слышала в прошлом или разучивала сама, отступило под грузом объединяющего его единства; и этот груз оказался столь легким, что все то мгновенное и с известной степенью определенности подлежащее фиксации нотами, что она слышала в каждый конкретный момент, приподнялось над этим скользящим движением, над внутренним ощущением времени, оказавшись в воздухе, собравшись в то значимое единство, для которого она не могла найти верных слов. Ей казалось, что музыка стала прозрачной и через нее проглядывает что-то еще, другое, неуловимое, но несомненное и настойчивое. В этот момент Арина почему-то вспомнила промелькнувший около двух часов назад перед ее глазами желтый силуэт Русского музея, зависший в освещенном фонарями темном осеннем воздухе. Пожалуй, никогда еще она не слушала музыку так невнимательно и никогда, ни до, ни после, не ощущала столь отчетливо проявившийся перед ее глазами смысл. Казалось, что воздух филармонии расступился и она увидела нечто по ту сторону воздуха.
– Дедушка, а что существует по ту сторону воздуха? – спросила Арина через несколько дней. Она не хотела говорить об этом с родителями, да и с Митей тоже: «Пусть общается с этой дрессированной белобрысой», – подумала она тогда.
– Эфир, наверное, – улыбнулся он. – Только эфира не существует.
– А я его видела, – спокойно и уверенно ответила Арина.
« 5 »Той весной и тем летом Митя тоже осознал нечто важное, нечто такое, что тогда, разумеется, еще не мог сформулировать и тем более осмыслить; и все же само это смутное осознание, хоть и появившееся пока в случайном, хаотическом опыте, сохранилось у него в памяти. Это осознание касалось сущности пространства. В те годы они с Лешей постепенно начали проводить все больше времени без взрослых; бегали не только вокруг домов и по соседским дворам. Изучали окрестности дачи, уходя от нее все дальше, разглядывая покрытые ряской лесные пруды с гулким чавканьем воды и отчетливым кваканьем лягушек. Шатались по паркам, ближним и дальним, по улицам центра и широким новым проспектам, по стройкам и железнодорожным насыпям. Взламывая двери, залезали в законсервированные городские бомбоубежища. Иногда даже углублялись в Удельный лесопарк, приближаться к которому им было категорически запрещено. Разумеется, совсем не обо всем этом они рассказывали родителям и уж тем более не рассказывали о походах в лесопарк. А весной их давнее, практически несостоявшееся приключение с Элизабет Тейлор получило неожиданное продолжение.