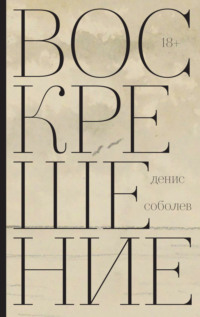
Воскрешение: Роман
С одиннадцати лет Митя и Леша ходили в ближайшую секцию дзюдо, куда Митю родители же и отправили. Ничего особенно опасного и уж тем более боевого там не было; в основном перехватывали и выворачивали руки, швыряли приятелей на маты, которыми был выстлан пол в спортивном зале, и тому подобное. Но реакцию это развивало, конечно, а когда участились набеги, то и уменьшало чувство беспомощности перед отдельными гопницкими группами, тем более что гопники были почти все прокуренные и упитые, в случае чего с дыхалки сбивались легко, так что если среагировать вовремя и рывком побежать, то они беспорядочно растягивались, и с каждым из них можно было выходить практически один на один. Хотя особых иллюзий по этому поводу у них не было; им быстро объяснили, что все эти «боевые искусства» всемогущи только в воображении обывателей, даже подпольное карате. На практике же против толпы гопоты с ножами мог помочь в основном пулемет, но пулеметов у них не было. А еще, как выяснилось, у этого была и обратная сторона; друг друга дзюдоисты воспринимали как своего рода военнообязанных. Так что когда произошла эта страшная история с изнасилованием, Лешка просто пришел к Мите и сказал, что зайдет в шесть. Но и сам Митя не протестовал, наоборот; в этой ситуации продолжать делать вид, что их это не касается, казалось ему отвратительным. Да и унизительным тоже.
– Что-нибудь с собой взять? – спросил он Лешку, когда тот за ним зашел.
– Не. Пиздить мы сегодня никого не будем.
– А куда?
– Познакомишься.
« 8 »Оказалось, что уже некоторое время Лешкины друзья собираются в гаражах поближе к железнодорожному полотну. Поскольку гопники почти никогда не приходили без оружия, то и они изготовили запасец – ножи, напильники, нунчаки, заточенные трубы; а в гаражах и на пустырях учились ими лучше пользоваться. Нунчаки Митя так и не полюбил, уж больно гопницким оружием они были; но уметь их отбивать было необходимо. А еще нунчаки были палкой о двух концах; при всей их опасности, если не испугаться и отбить, хоть той же трубой, а еще лучше перехватить, то дальше можно было бить практически в упор. Кроме того, гаражи имели еще одно несомненное достоинство. Если разрозненные группы гопников сюда все же забредали, то отлавливали и мочили уже гопоту, да так, чтобы мало не показалось. Так что постепенно на пустырях в районе железнодорожных путей гопники перестали появляться. Пили в гаражах что попадалось. Те, кто помладше или послабее, часто пили «Солнцедар» или «Кагор», кто посильнее – только водяру; почему-то с тех пор, как Горбатый начал на водяру наезжать, ее стало сильно больше. Митю даже немного удивляло, где ее столько берут; все-таки несовершеннолетние как бы. Те же, у кого были родственники на Украине, приносили украинский самогон под названием «горилка». Некоторые пили с понижением градуса, для понта; сначала водяру, потом «Солнцедар», потом пивасик; в том смысле, что ничего с ними не будет. Иногда ничего и не было; чаще ходили блевать в кусты за гаражами. И ерша, конечно, пили тоже; как же без него. Часто пили водку с пепси-колой, которую почему-то делали на заводе посреди Полюстровского парка. Работягам можно было дать на лапу, и через заводской забор они передавали пепси целыми ящиками.
К Митиному удивлению, в гаражах было относительно много девиц, которых здесь в глаза и за глаза звали телками; даже девиц из соседней школы. Телки пытались пить как все или чуть меньше, как получалось; а вот пьянели быстрее. Просили научить их пользоваться оружием; их учили, но не совсем всерьез. Хотя они думали, что всерьез; очень этим гордились; ходили с заточенными напильниками, как какие-нибудь валькирии из Кировского театра. Но и обжимались здешние телки тоже охотно, практически со всеми, даже с Митей, который особо и не знал, что с ними делать. От большинства из них несло перегаром, так что целоваться с ними было не очень приятно, но нужно, иначе бы его застебали; тем более что в их с Арей продвинутой школе целоваться было особо не с кем или, по крайней мере, не очень реалистично. Но и в гаражах тоже, хотя по углам телки обжимались в открытую и даже с известным понтом, для большинства из них дальше этого дело не заходило. Те, кто постарше или кому не терпелось, выходили на улицу или шли в квартиры, если находились свободные; в квартирах не собирались, не пили, оружие не делали и уж тем более не хранили. Говорили, что со своими девками гопники трахаются на глазах у всех; так на то они и гопники, почти животные. Благодаря Лешке и знакомым дзюдоистам Митю приняли почти за своего, а вот он себя своим не чувствовал вовсе. А еще он постепенно начал сомневаться в том, что ершом и обжиманиями все не закончится, а ведь он приходил сюда не за этим.
Тем не менее после очередной стычки с гопниками все же забились на пустыре, который отделял их от новостроек за Муринским ручьем; и забились по-крупному. Митя думал, что заборзевшая гопота всерьез это не воспримет, и надеялся, что она отхватит вперед и с запасом; но они восприняли. Когда он увидел темную массу, которая перла на них в поздних сумерках с той стороны пустыря, в душе что-то екнуло. Когда-то дедушка говорил ему, что ничего не боятся только круглые дураки, и Митя повторил это самому себе; двинулся дальше. Довольно долго стояли друг напротив друга, осыпая оскорблениями, но все же не переходя к действиям; гопники грязно объясняли, как именно они собираются совокупляться с их телками. Митя вспомнил поцелуи в гаражах, пусть даже слюнявые и пьяные, и его стала охватывать ярость. Ему было приятно, что в долгу перед гопотой они не остались; Паша, бывший у них как бы за главного, объяснил гопоте подробно и в деталях, куда и как они будут иметь их блядей, а также их сестер, матерей и саму гопоту. Дальше все происходило быстро и сумрачно. Почти в полной темноте две толпы, вооруженные ножами, напильниками, заточками, трубами, нунчаками и обычными палками, рванули друг на друга, и все смешалось. Уже через несколько секунд Митя понял, как мало пользы было от четырех лет занятий дзюдо; так что он скорее бил во все стороны, стараясь не давать к себе подойти, нежели делал нечто особенно полезное для исхода свалки. Но все равно, кажется, к концу второй или третьей минуты ему от кого-то прилетело, и он вырубился. Потом увидел Лешку, бившего его по морде.
– Угомонись, – сказал он Леше. – Я в порядке.
Леша убежал назад, в сторону свалки. Совсем рядом выли ментовские сирены и вспыхивали мигалки; было видно, что народ начинает беспорядочно разбегаться по пустырям. «Сейчас я всей этой мрази выдам», – подумал Митя и снова потерял сознание. Очнулся он в грязи; в глазах все расплывалось, голова болела. Мигалки все еще вспыхивали, было похоже, что менты еще кого-то вяжут. Митя встал, повалился снова; начал медленно отползать подальше от мигалок. Как он добрался до дому, помнил смутно.
– Зацепился за что-то в темноте и навернулся в канаву, – сказал он родителям. – Все же раскопано, как после ядерной войны.
У него диагностировали легкое сотрясение мозга, но класть в больницу не стали. Через неделю разрешили вставать с кровати.
– Ты бы со своей неповоротливостью, – сказала мама, – поменьше шлялся по вечерам. Говорят, неделю назад была ужасная драка между шпаной. Откуда только они берутся. Хотя понятно откуда. Полгорода уже сплошная лимита. А ленинградцам, как и раньше, жить негде.
К счастью, как оказалось, ментам все-таки кто-то стукнул, и они появились почти сразу, как только началась массовая драка. Так что раненых было много, а убитых не было совсем. Леша получил две резаные раны и лежал в отделении травматологии детской больницы Раухфуса недалеко от площади Восстания. В первый же день, когда Мите разрешили встать, они с Арей поехали его навестить. Попросили у родителей денег; привезли ему два мешка сладостей и фруктов.
– Больно? – спросил Митя.
– А то.
– А ты?
– Фигня. Сотрясение.
– Я уж подумал, что ты дуба дал. Аж застремался.
Вышли на улицу Восстания, просторную, прямую, освещенную тем особым ленинградским архитектурным благородством, которое невозможно ни с чем перепутать.
– Это он тебя вытащил? – вдруг спросила Аря, как обычно без предисловий.
– Он.
– Значит, мы теперь оба навсегда его должники, – сказала она, подумав.
– Думаешь, я не знаю? Хотя ты-то здесь при чем.
Аря вскинулась, но промолчала.
Пашу, пару его приятелей и кого-то из замуринской гопоты вроде бы повязали. Но остальные ментам ничего не сказали; да и было понятно, что спрашивают больше для проформы. Гуляли, никого не трогали, привязалась шпана, нет, незнакомая, никогда раньше не видели, ни с кем из них конфликта вроде бы не было, завязалась драка, дальше помню смутно, потом все куда-то разбежались. Было ясно, что защиты от ментов все равно никакой, только затаскают. Но через некоторое время стало известно, что с гопниками достигли соглашения. С этой стороны Муринского ручья они обещали больше не появляться; а если что нужно, то поодиночке, без оружия и телок не трогать.
« 9 »На этот раз их отправили в Москву надолго и уже без присмотра, точнее почти без присмотра; родители, конечно, их проводили, тетя Лена и дядя Женя обещали встретить. Все вместе они съездили на Финбан и купили билеты.
– На деревню к дедушке, – хмыкнула мама, но папа не засмеялся, а только улыбнулся краем рта, как будто с усилием, и быстро отвернулся.
– Пора, – ответил он, чуть подумав, – пора и им взрослеть.
В Москву обычно, хотя и не всегда, ездили на проходящем из Хельсинки; он останавливался сравнительно недалеко от дома, в Ручьях. Минусом было то, что проходил он поздно, около часу ночи, и, пока они ждали поезда, Арина начинала, как папа это называл, хлопать глазами; на этот раз, не раздеваясь, только сбросив тапки, она свернулась калачиком на диване в большой комнате, да так и уснула. Зато поездка на проходящем избавляла их от толкотни Московского вокзала, криков носильщиков с огромными железными телегами, потных и почему-то вечно опаздывающих, проталкивающихся через толпу командированных и мешочников. Да и в Москву хельсинкский поезд приходил не в рассветном холоде, а поздним утром; отмытая Москва светилась и встречала их теплом своего густого лета.
Родители положили их вещи под сиденье, коротко переговорили с проводницей, кажется в третий раз повторили, что дверь купе нужно закрыть изнутри, что Митя должен спать на верхней полке, а Арина на нижней, и уже из полутьмы платформы еще раз им помахали. Ей показалось, что мама заметно тревожится. Соседей по купе у них не было; они заперли дверь и начали изучать финские каталоги, как обычно обнаружившиеся в сеточках над полками. Но Арине быстро стало скучно; в журналах были в основном какие-то женщины, похожие на эстонских продавщиц из столовых с надписью «Сёёкла», и реклама унитазов с ковриками из длинной шерсти неестественных цветов. Зато в самом купе, несмотря на ночной час, все еще чуть пахло разогретым пластиком коричневатых стен. Пока Митя рассматривал предполагаемых продавщиц, Арина быстро, едва ли не одним прыжком, забралась на верхнюю полку и начала раскатывать матрас.
– Ты куда? – возмущенно закричал Митя, с некоторым опозданием сообразив, что она не просто так решила попрыгать. Видимо, подействовал поздний час, хотя особой сообразительностью он никогда не отличался.
– Спать, – ответила она; главным сейчас было не позволить втянуть себя в спор, так что Арина почти мгновенно заправила простыню под матрас и взялась за наволочку и подушку.
– Тебе велели спать внизу.
– Это тебе велели спать наверху. Ну так и спи напротив.
– Это не наши места.
Она была довольна еще и тем, что ей удалось захватить место по ходу поезда.
– А кто будет спать на вещах?
– Дверь-то закрыта. Там еще одна щеколда. Можешь закрыть и ее.
Щеколду Митя закрыл, но с недовольным ворчаньем остался спать внизу. А вот уснул он почти сразу. Арина же лежала на верхней полке и долго смотрела на проплывающие в окне железнодорожные столбы с тусклым желтым светом, на прерывающуюся стену придорожной зелени и дальние поселки. В ночной темноте деревни и городки казались густыми черными массивами, лишь случайно помеченными редкими огоньками. Поезд равномерно подрагивал ровно и спокойно, лишь иногда более отчетливо дергался на стрелках и снова успокаивался. Она вспомнила, как когда-то они раскладывали по квартире железную дорогу; на самом деле они и сейчас иногда это делали, вызывая отчетливое мамино раздражение, но все же теперь они собирали железную дорогу гораздо реже. Ночь была всюду – в темном купе и на дальних озерах, вспыхивающих скользящими серебряными отблесками, и даже из-за закрытого окна купе эта ночь казалась необычно теплой.
Проснулась Арина уже утром; несмотря на то что было чуть позже семи, свет казался не утренним, а дневным, мимо окна проплывали дебаркадеры, стоящие поезда, товарняки и рифленые бетонные заборы. Тетя Лена и дядя Женя встретили их, как обещали, на Ленинградском вокзале; точнее, прямо на платформе, практически напротив окна их купе; было непонятно, как они заранее вычислили его так точно. Позвали носильщика, побросали вещи в багажник и сразу же тронулись; Арина помнила, что недалеко. Москва всегда немного удивляла ее сочетанием несочетаемого; старые дома, даже не просто старые, как в центре, а часто двухэтажные, совсем небольшие, чуть ли не как Кикины палаты, а рядом с ними либо что-то такое явно советское, середины века, либо вообще кирпичное, по виду не так давно и построенное; все это было вперемешку и, похоже, никому не мешало. В Лопухинском Митя выскочил из машины и сразу же побежал наверх, даже не предложив дяде Жене помочь с вещами; он вообще любил Москву больше ее. Арине стало неловко. Так что помочь предложила она, но дядя Женя только приподнял голову над багажником, засмеялся и отмахнулся.
– Аренька, – сказала тетя Лена, – ну какие у вас вещи.
Бабушка встретила ее в дверях, а бабушка Ида, младшая сестра деда, в прихожей. Дед Илья обещал прийти к обеду, но, как выяснилось, собирался потом снова куда-то уехать. Мама им временами говорила, что Москва и не город вовсе, больше «комплекс сросшихся деревень», превращенный большевиками в столицу взамен другой, настоящей, так и не сломленной, но слова словами, а справедливости ради Арина вынуждена была признать, что приезжать в Москву приятно. Приятно, когда тебя обнимают и даже немного тискают, одновременно предлагают устроиться поудобнее и покормить и спрашивают обо всем на свете; приятно садиться за огромный стол у окон с тяжелыми шторами, вытягивать ноги, даже разваливаться на стуле, как будто сидишь на садовой скамейке. Но потом за все эти мысли ей стало стыдно перед самой собой, как если бы она неожиданно упала в собственных глазах; Арина выпрямила спину и подумала, что просто очень рада всех видеть – бабушку, и бабушку Иду, и дядю Женю, и тетю Лену; тетю Лену, наверное, почему-то даже в особенности, хотя как раз Полина мама прямой родственницей им не была, она была второй женой дяди Жени. Мама утверждала, что тетя Лена, наверное, втайне говорит о нем «жидовская морда», но Арина в это не верила. К этому моменту она уже знала, что не все, что говорит мама, следует понимать буквально.
Зазвенел звонок-гонг, но дед отпер дверь сам и сразу же вошел.
– Не приходить же без звонка, – сказал он, и было непонятно, говорит ли он всерьез или шутит.
Арина подумала, что, с тех пор как дед гулял с ними по набережной, он изменился, кажется постарел, а может быть, просто по дороге домой еще не успел сбросить с себя бремя рабочих дел. Но и про себя она думала нечто похожее; уже некоторое время ей казалось, что она очень быстро и необратимо становится взрослой.
Почти целую неделю они прожили у тети Лены, дяди Жени и Поли, где-то в новостройках, у метро со странным названием «Аэропорт». Мите отвели маленькую комнатку, которая обычно служила дяде Жене кабинетом, а вот Арину, к ее изрядному недовольству, поселили в одну комнату с Полей. Ей казалось, что теперь они говорят на разных языках. Как-то втроем они шли по улице и из одного из открытых окон услышали глубокий и прекрасный голос Далиды. Арина увидела, как Митя поднял голову и поискал глазами окно.
– Не понимаю, – сказала Поля, почему-то обращаясь только к Мите. – Почему? Она же была одновременно столь многим. Была одарена почти во всем. Кажется, ей удавалось практически все, за что она ни бралась. Перед ней был открыт весь мир. Не понимаю.
Митя кивнул. Арина растерянно посмотрела на Полю.
– Она недавно покончила с собой, – объяснил он Арине.
– Это как-нибудь объяснили?
– Она оставила записку, – добавила Поля. – La vie m’est insupportable. Pardon-moi.
Митя снова кивнул.
Весь этот разговор показался Арине пустым, малопонятным и на удивление чужим. Несмотря на то что она ощущала себя неожиданно взрослой, именно в этот приезд несколько лет, разделявших их с Полей, показались ей настоящей пропастью. Несмотря на маленькую грудь, гораздо меньше, чем у Арины, как ей казалось, Поля выглядела сформировавшейся женщиной. Это заставляло Арину снова ощущать себя почти ребенком, и ей это не нравилось. По утрам по их спальне Поля ходила практически голой, в одних белых хлопчатобумажных трусах; могла так подойти и к окну. А еще она надо всем смеялась, и над хорошим, и над плохим, даже над чужим горем; Арину это отталкивало, но она сдерживалась. Как-то утром Митя постучал к ним в комнату, и Поля сразу же откликнулась:
– Что это еще за церемонии? Заходи, конечно.
Только потом, когда Митя уже стоял на пороге, Поля с напускным удивлением посмотрела на себя, демонстративно смутилась и добавила, что забыла, что еще не одета. Попросила подождать пару минут в большой комнате. Митя неловко опустил глаза, быстро развернулся и вышел. Но Арина успела увидеть, как вспыхнули его глаза, каким-то совсем незнакомым именно в нем, чужим и отталкивающим блеском, чем-то похожим на то выражение, с которым одноклассники иногда смотрели на ее грудь, и с этого утра она стала относиться к Поле еще хуже, на самом деле с трудом ее выносила. А ходить по дому полуодетой Поля временами продолжала, хотя вроде бы в рамках приличий. Арине казалось, что краем глаза Поля наблюдает за Митиной реакцией, и это выводило ее из себя еще больше. Так что она была очень рада, когда они переехали назад к бабушке и дедушке, в ту все еще странно малорослую, но теплую и почти родную для нее Москву.
« 10 »– Давайте посмотрим, что у них там происходит, – как-то сказал дед, включая телевизор, но сказал это так, как иногда и вообще с ними разговаривал, не спрашивая, а просто ставя в известность. Арина устроилась на диване рядом с бабушкой.
– Ты был в Женеве? – спросила она.
Дед покачал головой:
– И не уверен, что там есть что делать.
На экране широко улыбался их молодой генеральный секретарь; вокруг улыбались тоже, одобрительно кивали. Показывали много иностранцев, частью известных и примелькавшихся по новостным выпускам, частью каких-то незнакомых. Все были в костюмах. Арине показалось, что Мите стало скучно; потом он тихо поднялся и ушел к себе. На экране Горбачев много и горячо говорил; говорил о лучшем будущем для всех, об общечеловеческом, о мире без страха, о необходимости построить новый европейский дом, который станет для них общим. Дед тяжело и внимательно смотрел на экран, чуть опустив челюсть, сжав пальцы рук в замок.
– Это хорошо? – спросила его Аря.
– Конечно, – ответил дед. – Как же это может быть плохо?
– Война – это очень страшно, – добавила бабушка. – Ты даже не представляешь, насколько страшно. Лучший дом для всех – что может быть лучше.
Арина огляделась, посмотрела на них. Бабушка Ида поймала ее взгляд, улыбнулась и согласно кивнула.
Дед расцепил кисти рук, внимательно посмотрел на Арину.
– Страна, которая не меняется, – сказал он, – обречена на гибель. Мы все меняемся. И должны меняться. Так устроен мир.
На секунду Арине показалось, что он говорит с ней и одновременно с кем-то еще. Но это ощущение оказалось ошибочным и исчезло почти мгновенно.
– Иногда, – продолжил дед, – ради общих целей приходится жертвовать собственной выгодой, даже частью собственных интересов. Но лучший мир стоит того. Если получится, это будет мир без страха, без непосильных военных расходов. Понимаешь, это как в шахматах. Ты жертвуешь коня, но выигрываешь партию. А в данном случае партию выигрываешь не только ты, но и все.
– А такое бывает? – спросила Арина. – Чтобы выиграли все и никто не проиграл?
– Бывает, наверное, – ответил дед, а потом поправился: – Конечно, бывает. Это и называется мир.
Арина задумалась.
– А ты тоже воевал? – спросила она деда. – Дедушка Натан нам почти ничего не рассказывает. Бабушка больше. Про блокаду.
Дед кивнул.
– Воевал, – ответил он. – Только что там рассказывать. Воевали. Победили.
Он подошел к телевизору, сделал погромче. На экране уже горячо пожимали руки, чуть ли не обнимались. «Мир», – подумала Арина. Все ее детство это слово произносили так часто – в школе, по телевизору, в песнях, – что оно давно потеряло всякий смысл. А сейчас ей пришло в голову, что, наверное, как-то так мир и выглядит; эта мысль ее удивила. Слово стало выпуклым. «Мир», – одними губами удивленно повторила она.
Арина неожиданно обнаружила, что за окном уже темно, а сама она почти засыпает.
– Я пойду, – сказала она.
– Спокойной ночи, – ответил дедушка. Ей снова показалось, что он думает о чем-то другом, тяжело и напряженно.
Бабушка поднялась с дивана и взяла ее за руку.
– Я сама, – удивленно возразила Арина.
– Пойдем, пойдем.
Вопреки обыкновению он рано лег спать.
– Что-то случилось? – обеспокоенно спросила его Аня.
– Нет. Просто устал. Ты же понимаешь, все это создает очень много лишней работы. Будем надеяться, что вправду к лучшему. Да и этот болтун все-таки не один решает. В случае чего его притормозят.
– Ты плохо себя чувствуешь?
– Не волнуйся, – ответил Илья. – Все правда нормально. Почитай еще.
Аня выключила свет, но он все равно не уснул, долго ворочался, кровать казалась жесткой и неудобной. «Изнеженные мы стали», – подумал он, но потом все же уснул. Сон, поначалу размытый, постепенно начал приобретать более отчетливые контуры. Ему снилось густое и синее море, и, погружаясь в сон, он еще успел подумать, что это, наверное, именно то никогда им не виденное море, о возвращении к которому молились его деды, а иногда почему-то даже отец. Но потом Илья понял, что море было другим; во сне он не мог объяснить, почему именно, но твердо знал, что оно другое. На берегу возились какие-то люди с тросами, и их цепочка уходила все дальше в море; они стояли по щиколотку, по колено, по плечи в воде, но и медленно двигались в сторону суши. Вслед за ними из-под воды выползало огромное деревянное сооружение, похожее на крайне топорно сделанную лошадь. Ее голова поднялась над водой, и он с удивлением понял, что это действительно голова лошади. За ней из воды поднялся тяжелый конский круп; потом стали отчетливо видны копыта. Две цепочки уцепившихся за канаты маленьких людей тащили этого нелепого гигантского коня. Конь медленно поднимался над водой, постепенно обнажая свои чудовищные очертания. Неожиданно Илье стало страшно. Он вздрогнул и проснулся.
Илья понял, что мешало ему все эти дни, все эти недели, как песчинка в глазу, которую и не увидеть, и не коснуться, а без зеркала и платка толком и не избавиться. «Их обманут, – подумал он. – Их уже обманывают. Не только этого улыбающегося нарцисса. Все мы стали слишком изнеженными». От бессилия перед изощренным чужим коварством и гигантским колесом истории ему стало так душно и горько, как будто приснившееся ему будущее уже наступило. Он встал, подошел к окну, отдернул штору. Городское небо было темным и бессветным. «В Валентиновку бы сейчас, – тоскливо подумал он, – там хотя бы звезды». Проснулась Аня.
– Ты не спишь? – обеспокоенно спросила она.
– Сплю. Какая-то ерунда приснилась.
– Опять про войну?
– Нет. Просто ерунда. А почему про войну?
– Тебе теперь стала часто сниться война.
– Старею, наверное, – ответил Илья, попытавшись выразить улыбку голосом; он понимал, что на фоне чуть светящегося прямоугольника окна его лица она не видит. Вернулся в постель.
Как ни странно, на этот раз он быстро уснул. Но ему действительно приснилась война. Это было восемнадцатого октября, в то утро его, тогда еще лейтенанта, прикомандировали к какому-то полковнику, который должен был отвезти в Москву документы. Почему-то отвезти их надо было кому-то из аппарата правительства, не по военной линии. «Если меня убьют, – сказал полковник, – папку вы все равно довезете. Как вы это сделаете, меня не интересует. Вы все поняли?»
От фронта до Москвы ехать было всего ничего; так что если что и мешало, то в основном тыловые проверки, хотя какой уж тут был тыл. Как обычно, все грохотало. На дорогах был хаос. Чуть за полдень они были в Москве; город казался полупустым, только что не брошенным. Как выяснилось, правительства в Москве уже не было; почти весь аппарат эвакуировали в Куйбышев. Так что и им тоже пришлось ехать в Куйбышев. Они ехали по Москве, а воздухе висела черная гарь; в бесчисленных каминах, печках и буржуйках жгли документы, а пепел вытряхивали прямо в окна. Не по сезону холодный ветер разносил черный пепел вдоль улиц. В душе выло тяжело и горько. Несокрушимая машина вермахта должна была вступить в город со дня на день, может быть завтра, хотя, может, и через три дня. Илья продолжал спать, а его сон заносило грязным снегом, наполненным черной бумажной гарью; он спал и не мог проснуться.