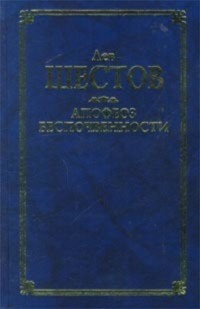
Шекспир и его критик Брандес
Мы уже говорили, что Тэн лишь формулировал то, к чему пришли «все в Европе». До него, задолго до него, наука своими заключениями поселила ужас в рядах наиболее отзывчивых людей, и этот ужас нашел себе выражение в тех «meditations», которые были так запросто сброшены с пути исследования Тэном. Но большинство людей отнеслось очень равнодушно к новым идеям. Ни костяная улыбка Вольтера, ни сомнения Гейне, ни бури Байрона не касались их. Идеи принесли им пока лишь некоторые удобства, разрешив снять с себя маску лицемерия, которой прежде приходилось прикрывать маленькие житейские радости. Пока «цветение» не знало иных красок, кроме светлых, все шло превосходно. Но проходило время; «дети века» поистратили свои силенки, маленькие радости стали им недоступны, на «поверхности бытия» стали являться мрачные, темные краски. Тогда пронесся по всей Европе страшный стон… Пока было весело, причина и следствие все объясняли; с ними было лучше, чем с Богом, ибо они никогда не корили. Но каково жить с ними в горе? Когда несчастия одно за другим обрушаются на человека, когда бедность, болезни, обиды сменяют богатство, здоровье, власть? Каково Иову, покрытому струпьями, лежать на навозе с страшными воспоминаниями о гибели всех близких? Каково ему, когда единственным ответом на его жалобы являются рассуждения о кирпиче, сорвавшемся вследствие дождя? Для ученых Иов был – пациент, страдающий проказой, то есть неизлечимой болезнью; для них же он был пролетарием, то есть лишившимся имущества – и бездетным человеком. А когда он произносил свои неистовые слова: «Если бы взвешена была горесть моя и вместе страдание мое на весы положили, то ныне было бы оно песка морского тяжелее» и «дух мой смущен, мои дни угасают, гробы предо мною» – это относили к категории цветения, то есть к явлению, не требующему объяснения, сопровождающему падение кирпича. Это была черная радуга, некое «ничто», прибавленное к каплям и лучам солнца. Иов нашел успокоение в Боге. Но наши Иовы нигде не находили успокоения. Послушайте их, прочтите Метерлинка. Что такое его «слепые», l'intruse, смерть Тентажиля, как не история Иова, рассказанная человеком, верующим в универсальность причины и следствия? Что такое «одиночество» Мопассана? Но у Тэна детей не отнимали, проказой он не болел. Он был блестящим, гениальным ученым, его произведения расходились в несчетном количестве экземпляров, и он не только оставался равнодушным, видя, как при господстве причины и следствия, т. е. обязательной гармонии во внешнем мире, жизнь человека отдается во власть случая – он торжествовал по поводу своего ученого открытия. Какой дар принес он человечеству – прометееву искру или ящик Пандоры – ему было все равно. Да ведь и не он этот дар принес: человечество само отыскало его.
«Долго еще будут люди испытывать дрожь сочувствия при звуках рыданий великих поэтов. Долго еще будут они негодовать на судьбу, которая открывает их стремлениям карьеру бесконечного протяжения для того, чтобы раздробить их в двух шагах от входа о незамеченный камень. Долго еще будут они наталкиваться на необходимость, которую они должны были принять за закон», – пишет Тэн. То есть, долго еще будут гибнуть сотни тысяч, миллионы людей, как гибли до сих пор вследствие чисто внешних условий, долго будут еще на земле царствовать все то зло и весь тот ужас, о котором передает нам история человечества – от самых отдаленных дней до нового времени, – но это есть лишь естественный результат столкновения с необходимостью. Поэты плачут, мы вторим их рыданиям, видя, как уродует это нечто – «необходимость» – жизнь целых поколений людей. Но ученый не понимает такого отношения. Зачем возмущаться против живой геометрии? «Наоборот, кто не чувствует восторженного удивления при виде колоссальных сил, находящихся в самом сердце всего существующего, которые беспрерывно гонят кровь по членам старого мира, распределяют массу соков по бесконечной сети артерий и раскидывают на поверхности вечный цвет юности и красоты? Наконец, кто не почувствует себя выше и чище при открытии, что этот ряд законов примыкает к ряду форм, что материя переходит постепенно в мысль, что природа заканчивается разумом и что идеал, около которого вращаются после стольких заблуждений все человеческие стремления, есть та же самая конечная цель, ввиду которой работают, невзирая ни на какие препятствия, все силы вселенной?»[3] Пусть явится с этим исполненным пафоса блестящим красноречием к лежащему на навозе Иову современный ученый. Если «молитва замирает на устах», – то что же будет с этими тонкими обобщениями? Но наука не чувствует, что в нашем мире «il y a tant d'éléments si peu d'accord», она не знает внутреннего противоречия. Ей ясно, что тигр и паук это не одно и то же, что металл отличается от газа, и она устанавливает свою классификацию. Но всю жизнь она обняла одним понятием цветения и не чувствует в ней элементов, которые для всякого неученого так очевидно противоположны между собой. Единство, безличное внешнего мира она навязала и внутреннему, и восторгается тем, что «материя переходит постепенно в мысль», полагая, что от этого слова «постепенно» мысль, постигающая материю, подчинится законам материи. Все вековые муки человечества отброшены, как не требующие объяснения, как не составляющие для ученого «категории». Он не видит причины, в силу которой понятие «отчаяние» предъявляет право на объяснение; он не знает, зачем «преступление» требует себе «предиката», не заключающегося в понятии хотя бы металла или перпендикуляра. Он не чувствует, что есть зло, с которым созерцание единства сил природы никогда не примирит человека. Он говорит о красоте – потому лишь, что она не мешает общей теории, как понятное для него заключительное звено развития. Если бы он понял, что и она требует себе предиката, не заключающегося в скале, он бы и ее отверг. Да в сущности он так и поступил: для него искусство лишь «равнодушное изображение равнодушных сил природы». Всю совокупность наших отношений к явлениям, всю нашу способность ценить, то есть любить и ненавидеть – ученый прежде всего отверг и тем открыл новое обширное поле для завоеваний науки: человеческую жизнь. Наука «принялась за изучение души, вооруженная самыми точными и всепроникающими инструментами, верность которых была доказана трехсотлетним опытом».
Мы видели, как при помощи этих точных и всепроникающих инструментов ученый сбросил с пути Мюссе, Гейне и Байрона. Но пред ним стал Шекспир. Надо было пригнуть этого гиганта, надо было сгладить то место жизни, где высилась эта колоссальная вершина человеческого гения, чтобы дать простор легкому движению мысли. Нужно было его «рыкающих львов», Болингброков и Норфолков, его рыдающих Лиров, безумствующих Гамлетов, восторженных Ромео, могучих Ричардов, трогательных в своем кротком величии Дездемон и Корделий, бесстрашно идущих к своему идеалу Брутов втиснуть в цепь явлений. Всю эту глубокую, обширную жизнь нужно было пересмотреть и отметить ее лишь как добавочное к борьбе сил природы цветение. И Тэн не отступил пред этой задачей. Все с тем же стремительным пафосом он, следя за судьбами шекспировских героев, поет гимн собственному идеалу. В заключении к статье о Шекспире, непосредственно вслед за целым рядом слов, исполненных, по-видимому, неподдельного восторга пред художественным творчеством величайшего из поэтов, вы читаете такое примечание: «Один и тот же закон, как для органического, так и для нравственного мира. Это то, что Жоффруа Сент-Илер называет единством композиции», – и видите, если раньше не успели догадаться, что пафос всецело относится не к Шекспиру, а все к тому же «закону», и что драпировка, мрамор украшения давно повалились, исчезли как дым, что «мысль видит глубже, чем глаза». И точно – мысль видела что-то, но глаза – ничего. Если глаза могут обессилить мысль, то, конечно, и мысль умеет ослепить глаза. Вот заключение Тэна к Гамлету: «Если бы Шекспир писал психологию, он сказал бы вместе с Эскиролем: человек есть нервная машина, управляемая темпераментом, расположенная к галлюцинациям, увлекаемая не знающими узды страстями, неразумная по существу своему, смесь животного и поэта, имеющая вместо разума – пыль; воображение – ее единственная опора и руководитель; и случай ведет человека сквозь очень определенные и самые сложные обстоятельства к горю, преступлению, безумию, смерти».[4] Совершенно так, как в органическом мире, если бы не горе, преступление, безумие и смерть. Но для ученого эти слова ничего не значат; они так ничтожны, что явление, имеющее их своими предикатами, не смеет претендовать на особую категорию. Слово «случай», которому так строго воспрещено показываться, когда речь идет об объективных явлениях (ибо «случай» говорится тогда, когда ясно, что объяснения не нужно) – здесь, именно здесь на своем месте. И не думайте, что Тэн не следит за перипетиями гамлетовской трагедии. «Понимаете ли вы, – восклицает критик, – что когда он произносит эти слова (приводятся слова Гамлета), его зубы стучат, колени подгибаются, он бледен, как рубашка?.. Отныне Гамлет говорит, как будто он подвержен непрерывным нервным припадкам»… И дальше: «Гамлет – это Шекспир, и в заключение длинной галереи нарисованных им лиц Шекспир изобразил самого себя, и это самый глубокий из его образов». И для разъяснения внутреннего мира Шекспира ученому вполне достаточно таких слов, как «галлюцинация», «экзальтация», «мономания», «безумие». А вот и приговор: приводятся рассуждения Гамлета над черепом Йорика и говорится: «Когда человек доходит до такого состояния, остается одно: умереть». История Гамлета, как и Макбета, есть «рассказ о нравственном отравлении». И это – все. Навешаны ярлыки, подписан смертный приговор и дело считается оконченным: для торжества Сент-Илера больше и не нужно. Этого Гамлета, по Тэну – самого Шекспира, у которого «зубы стучат», «колени подгибаются», который «бледен, как рубашка» – смели двумя парами слов: «нравственное отравление» и «нервные припадки» и убрали из ученого кабинета, как случай, не требующий объяснения. И таков – весь Шекспир в глазах Тэна; вся изображенная поэтом жизнь может быть непосредственно подведена к «законам, которые примыкают к ряду форм», и к материи, «постепенно переходящей в мысль». Он глядел на шекспировскую жизнь – и ничего не увидел: он знает, что ее полагается описывать сильными словами, ибо Шекспир – сын беспокойного Возрождения. И эти слова кишмя кишат в его статье. Метафоры нагромождаются на метафоры, весь французский словарь к услугам ученого. И все-таки вы с изумлением говорите: «Слова, слова, слова». Прочтите его замечание о Лире: чего тут нет на нескольких строчках! И «страшный вид прогрессирующего безумия», и «нечеловеческие страдания» – все, что хотите. И тем не менее, для ученого – это лишь цветение на поверхности, а не категория. В таком роде все: и комедии, и трагедии Шекспира представляются необычайно резко, сильно, необузданно написанными, но суть лишь «дополнение», вся обрисованная им жизнь есть «ничто», объяснения не требующее, подобно тому, как мертвец для леди Макбет – только картина. И закон для человеческой жизни – случай.
И это есть настоящая «научная» критика. Тэну мало изгнать мораль и Бога из жизни (Шекспиру он приписывает такое же понимание жизни: где возможно, критик старательно «обосновывает» это) – ему нужно у жизни отнять самостоятельное значение. Не жизнь, а существование требует объяснения. То, что мы называем жизнью, есть видимость, и все же при этом не нужно отказываться от поэзии и по-прежнему можно употреблять весь созданный человечеством арсенал высоких и святых слов. «Мы можем, – кончает он свою статью о Шекспире, – сказать ему вместе с Дездемоной: мы тебя так любим, ибо ты много чувствовал и страдал». И все-таки тебе, как Гамлету, остается только умереть?
Итак, наша жизнь есть лишь «цветение на поверхности», и это должно нас приводить в восторг, хотя мы и отданы в добычу «случаю». Жизнь есть добавление к развившейся материи, и «в подобном мировоззрении заключается новая нравственность, новая политика, новая религия»; назначение науки – проповедь этого мировоззрения.
Так сказан Тэн. И его объяснение Шекспира было признано «гениальным». Правда, многие из писателей указывали на его «односторонность» – те, которые не считали (как это сделал Барцелотти), что он отдал достаточную дань «художественности» (кроме художественности ничто уже не смело предъявлять свои права, даже «нравственность») тем, что писал столь блестяще и красноречиво. Так С.-Бев упрекал его за исключительно научную тенденцию. Брандес называет его гениальным, но «односторонним». По заслугам оценил Тэна лишь один Фридрих Ницше, назвавший его без всяких ограничений «величайшим историком нашего времени». Больше Ницше ничего не прибавил. Но кому хоть немного знаком духовный склад этого оригинальнейшего и несчастнейшего из новых писателей, тот поймет, что именно «ученого», «познающего», восторгавшегося пред бескачественным существованием и ценил в нем Ницше, всю жизнь свою употребивший на то, чтоб уверить других, что так нужно и что он сам так делает. Но большинство оставило в резерве некоторую качественность, чтоб не только блестяще говорить и познавать, но чтобы и на самом деле забавляться маленькими радостями жизни. По науке выходило, что Тэн прав, но осуществлять его идеалы предоставили дальнейшим поколениям – те, которые еще могли радоваться.
Те же, которые не могли «радоваться», как мы сказали, с отчаянием и проклятием приняли за единственный закон для человеческой жизни – случай. Это люди из серии Метерлинка.
Но нашлась еще одна категория – самая распространенная.
Вместе с Тэном она признает абсолютное значение кирпича. Но восторги науки перед кирпичом она не разделяет. Наоборот – вместе с Метерлинком она его называет «слепой судьбой», разрешает по поводу его огорчаться, рисовать черепа, кости и трупы. Но в отчаяние приходить ей не хочется. И восторг, и отчаяние не подходят к делу. Восторг – неуместен, а отчаяние – слишком тяжелое чувство. Самое правильное отношение к управляющему нашей жизнью кирпичу – это грустное недоумение. Оно доказывает тонкое, «художественное» понимание и многосторонность, с ним соединяющуюся, и затем, все-таки, не отдает человека во власть безумию отчаяния. К этой категории люди особенно охотно примыкают: она дает право на принадлежность к духовной аристократии. И, главное, к такой аристократии – которая ни к чему не обязывает.
В таком духе написана вышедшая недавно на немецком языке книга Георга Брандеса «Вильям Шекспир».
III
Это огромная книга в 1000 страниц. Ее задача выяснить мировоззрение Шекспира и поставить его в связь с событиями из жизни великого драматурга. Брандеса возмущает, что в последнее время «горсть полуобразованных людей», «кучка плохих дилетантов в Европе и Америке дерзнула посягнуть на право Шекспира называться автором» известных под его именем произведений. Критик протестует против того, что «другому приписывают честь, принадлежащую гению Шекспира». Речь здесь идет о так называемой бэконовской теории. Несомненно, подстановка, которую изобрели «плохие дилетанты» не может быть названа удачной. Бэкона очень трудно представить себе автором «Ромео и Джульетты», «Гамлета», «Лира». Но что совершенно упущено из виду Брандесом, чего он знать не хочет и что знать очень следовало бы, в особенности ему – мнения этой горсти «полуобразованных людей» имеют свои – и важные – основания. Дошедшие до нас или, вернее, добытые ценой невероятных усилий английскими исследователями биографические сведения о Шекспире лишают нас всякой возможности хоть сколько-нибудь связать жизнь великого поэта с его литературной деятельностью. При полнейшей готовности обобщать даже самые незначительные факты, при решительности в заключениях, даже той, которую проявляет сам Брандес, приходится признаться, что писательская деятельность Шекспира непонятным, невероятным даже образом отделена от условий, в которых он жил и воспитывался. Мы знаем, что он учился всего лишь до 14 лет. В этом возрасте отец принужден был взять мальчика из школы, так как его денежные дела настолько расстроились, что об обучении сына нечего было и думать. И вот с 14 лет до 21 года молодой Вильям не то является подручным у своего отца-мясника, не то служит клерком в конторе адвоката. За это время он успевает жениться на неграмотной крестьянской девушке и настолько скомпрометировать себя браконьерством, что ему приходится покинуть Стратфорд и бежать в Лондон. Денежные дела отца приходят к этому же периоду в окончательное расстройство. В 1585 году – Шекспир уже в Лондоне: стережет лошадей знатных посетителей театра. Через некоторое время он начинает исполнять кое-какие роли в представлениях, а в 1588-89 году мы имеем уже его первые драматические опыты – не только «Тита Андроника», в котором многие видят лишь местами «руку» Шекспира, но и «Комедию ошибок», «Бесплодные усилия любви», принадлежащие уже несомненно его перу. Последнее произведение, как самое раннее, причисляется критикой и к самым незначащим. И несмотря на то, все-таки непонятно, как учившийся лишь до 14 лет человек мог написать «Бесплодные усилия любви». Как бы всеобъемлющ ни был гений писателя – он все же нуждается в известном развитии. И следы несомненного законченного общего образования явны для всякого в каждой строке этой пьесы. Вы не откроете в ней ученого Бэкона. Но для стратфордского юноши, еще недавно бывшего подручным в лавке мясника, переписывавшего в конторе бессодержательные бумаги, стерегшего лошадей у подъезда театра – такая свобода в обращении с лучшим литературным языком, та легкость, с которою поэт касается труднейших вопросов, та смелость, с которой он осмеивает тогда модную манеру изысканной речи (эвфуизм) – безусловно загадочны. Приведем небольшой пример из того места, которое не было подвергнуто переделке при постановке пьесы в 1597 году пред Елизаветой:
Бирон… Любовь дает глазамЧудесную способность прозреванья;Влюбленный глаз способен ослепитьОрлиный глаз; влюбленный слух услышитСлабейший звук, невнятный для ушейОпасливого вора; осязаньеВлюбленного чувствительней, нежней,Чем нежный рог улитки; вкус влюбленныйИзящен так, что Бахус гастрономВ сравненьи с ним – обжора грубый. То жеИ в доблести: любовь, как ГеркулесНа самый верх деревьев гесперидскихВзбирается без устали. ЛюбовьУмна, как сфинкс, чудесно гармонична,Как лира Аполлона. Чуть любовьЗаговорит – все боги начинаютГармонией баюкать небеса.На всей земле не встретите поэта,Дерзнувшего приняться за перо,Не омокнув его сперва в прекрасныхСлезах любви; зато как мощно онСвоим стихом пленяет слух суровый,Как перед ним в смирении тиранСклоняется.Все это говорится в доказательство того, что не нужно отдаваться науке, что не наука, а «женские глаза – тот мир, та книга, тот рассадник познания, откуда Прометей извлек огонь». Юноша-поэт, скромный клерк Стратфорда, не успев еще прочно основаться в качестве второстепенного актера – позволяет себе так беспечно и легко нападать на науку, недостаточное знакомство с которой должно было бы внушить ему робкое благоговение пред ней. И послушайте, как свободно он говорит о ней: почти как Мефистофель у Гете, с той лишь разницей, что Бирон у Шекспира все же оставляет за наукой некоторое значение. Но она нисколько не импонирует ему, ни на волос не смущает его. И какой превосходный язык уже слышен! Слова повинуются автору, точно солдаты опытному полководцу. А всего три года, как Шекспир в Лондоне. И за это время, в качестве незначительного актера, он еще нигде не бывал, ничего, кроме театра, не видал. Да и в театре он, по-видимому, не столько был актером, сколько занимался чем-то посторонним: даже и впоследствии он не исполнял значительных ролей – в «Гамлете» он исполнял роль тени отца, в «Как вам это понравится» – старика Адама. И в течение столь короткого времени он успел настолько освоиться с труднейшими вопросами жизни, чтобы не подражать в робком благоговении другим, а смело выступать со своим мнением, судить! При дворе, в лучшем обществе задает еще тон «Эвфуэс» Лили, – а Шекспир смеется над изысканной высокопарностью, которая ему, если бы он был так мало подготовлен, казалась бы недосягаемым идеалом стилистической красоты. Он превосходно владеет модным языком, умеет говорить отборнейшими перлами напыщенности – и смеется во всей пьесе над «эвфуизмом». Прочтите письмо Армадо к королю, к Жакнетте (попавшее к принцессе), и вы скажете, что все это написано истинным виртуозом высокого слога. Откуда взялось бы к Шекспиру и такое знание приемов искусственной речи, и такое тонкое понимание ее смешных сторон?! Армадо дает Башке три пятака и говорит: «Вот тебе ретрибуция». Шут, по его уходе, восклицает: «Посмотрим теперь на его ретрибуцию! Ретрибуция! О, это латинское слово, которое означает три пятака. Три пятака – ретрибуция! „Что стоит эта лента?“ – Пятак. „Нет, я вам дам ретрибуцию“. Вот она штука какая, ретрибуция! Чудеснейшее слово – лучше не придумаешь. С этих пор не буду ничего ни покупать, ни продавать без этого слова». Потом Бирон дает ему денег и говорит: «А вот тебе за труд твой гонорарий». – Гонорарий! Восклицает Башка. – О милый гонорарий! Это лучше, чем ретрибуция, на одиннадцать с половиною пятаков лучше». Мы привели лишь эти два небольших отрывка, но во всю пьесу вплетена насмешка над модным обычаем высокопарной речи. За Армадо, словно тень, ходит его маленький паж и высмеивает каждое высокое слово своего господина. Священник и учитель забавляют нас тем же, чем и Армадо. И всему этому противопоставлено живое, естественное остроумие другой группы лиц – принцессы и сопровождающих ее дам и короля с товарищами. Их шаловливая, непритязательная молодая веселость, быть может, тоже еще не совсем свободная от литературных украшений – наряду с неуклюжей и неповоротливой затейливостью ученых Армадо – есть смелый вызов прочной традиции и в устах неучившегося юноши актера совершенно немыслим.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
H. Taine «Histoire de la littérature anglaise». Tome quatrieme, livre IV, ch. II.
2
Ib. Introduction, I.
3
Ib. t. IV, livre IV, ch. II.
4
Ib. t. II. livre II. ch. VIII.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
