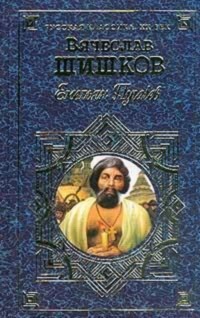
Емельян Пугачев, т.2
– А ну, дядя, сними рукавицу, покажь руку.
У полковника Чернышева задергались концы губ, в помутившихся глазах стал меркнуть свет.
– Что за человек?
– Из-извозчик...
Подбежавший на разговор Тимоха Чернов, захлебываясь мстительной радостью, громко закричал:
– Он, он! Вот те Христос, он... – И, состроив плаксивую рожу, Тимоха повалился перед Чернышевым на колени: – Ваше высокоблагородие! Помилуйте... Пожалейте мою молодую жизнь!
– Братцы, – обратился Давилин к подбежавшим солдатам. – Скажите по правде-совести, что за человек?
– Наш полковник это, Петр Матвеич Чернышев, – не сморгнув глазом откликнулись в кучке солдат.
Бледное, помертвевшее лицо Чернышева вдруг налилось кровью, глаза ожесточились, он соскочил с облучка и крикнул:
– Да, это я... Вешайте, негодяи! – Затем сорвал с себя армяк и с силою бросил в лицо Давилина.
Глава VI
Гипохондрия. Страшный суд. Павел Носов. Блестящая победа
1
Секунд-майор Наумов зашел проведать капитаншу Крылову, сообщить ей свежие вести о несчастье с полковником Чернышевым, да кстати и позавтракать: капитанша была изрядная мастерица стряпать. Но оказалось, что Крылова о судьбе Чернышева уже знала и встретила Наумова с заплаканными глазами. Четырехлетний карапуз Ваня, с измазанной вареньем мордочкой, сшибал клюкой расставленные на полу бабки.
– Ну что, от благоверного никаких вестей? – приласкав мальчика, спросил Наумов капитаншу.
– А откуда же могут быть вести, батюшка? Разве что сорока на хвосте... Вот все ждали, надеялись получить весточку с полковником Чернышевым, да видишь, какая беда стряслась... Пропасти-то на него нет, на этого Пугача треклятого!
– Дядя Наум, – ввязался Ваня, – а он царь взаправду или нарочно, Пугач-то?
– Царь, царь... Только с другого боку.
– Х-х, с другого... А с какого? Вот с этого али вот с этого? – подбочениваясь то правой, то левой рукой, спросил озадаченный Ваня.
– Он вор, – сказал Наумов.
– А кого он украдывал? – оживился мальчонка и пристукнул клюкой по бабкам.
Нянька, вырвав у Вани клюку, увела его.
Вошел с вязанкой дров старый, хромой слуга Крыловых, сбросил дрова к печке.
– Ну, каково живешь, Семеныч? – приветливо улыбаясь старику, спросил Наумов. – Не слыхал ли чего новенького?
– Новое хуже старого, ваше благородие, – виновато откликнулся старик, припадая на хромую ногу. – День ото дня гаже! Известно, простой народ не в довольстве находится, вот и шумит.
– Чего ради он шумит-то? – полюбопытствовал Наумов и принялся раскуривать трубку.
– Харч дорог, ваше благородие. День ото дня дороже. Эвот до осады самая лучшая крупчатка была тридцать копеек пуд, а таперя к шести рублям пудик подходит. Во как! А в злодейском лагере дороже четвертака за пуд крупчатку продавать не повелено... Сам Пугач быдто запретил.
– А ты, Семеныч, всерьез скажи, чего народ-то гуторит, особливо солдаты да казаки?
– Всяко, ваше благородие, брякают. Иным часом и прикрикнешь на другого обормота: ах ты, мол, такой-сякой – видно, присягу позабыл? Ну, он язык-то и прикусит. Эвот недавно купчик Полуехтов в разгул ударился и всех вином потчевать стал в кабаке. Ну, солдатня и дорвалась до дармовщинки-то! Кричат пьяные: надо-де в царев лагерь идти, там вольготней, там вином хоть залейся и харч добрый, кажинный Божий день убоинку едят, а у нас-де что?
– Ах, мерзавцы! – нахмурился Наумов и, не докурив, стал выколачивать трубку.
Старик постоял, помялся, пробурчал: «Эхе-хе, жизня!» – и покултыхал вон.
– Да и то правду молвить, уж больно распустили солдатишек-то, – проговорила капитанша, накладывая в глубокую тарелку моченых слив с яблоками.
– Нимало не распустили, – возразил Наумов, и у него при виде вкусностей стала набегать слюна. – Да и не в одних солдатах дело. Промеж штрафных офицеров надо сыскивать смутьянов-то, вот где. Штрафных-то много сюда ссылают из столицы. Взять, к примеру, того же Андрея Горбатого, прапорщика, – ой-ой, цаца какая!.. Его из капитанов разжаловали да турнули сюда. Генерал Валленштерн досматривать за ним приказал мне.
– А вот эти самые, как их... полячки пленные...
– Конфедераты? Я бы их всех в мешок – да в воду. Я бы их... И напрасно господин губернатор компанию с ними водит.
Отведав моченых слив и настоянной на рябине водки, секунд-майор Наумов, ради служебного соглядатайства, направился к прапорщику Горбатову.
Андрей Ильич Горбатов со своим знакомцем конфедератом Плохоцким снимал две небольшие горницы в доме столяра-краснодеревца, выплачивая хозяину по семьдесят пять копеек в месяц. Восемь месяцев тому назад по приговору дисциплинарного военного суда он был выслан из Петербурга на службу в Оренбург. Держал он себя здесь независимо, обособленно, с офицерами не водился, перед начальством не заискивал. С солдатами всегда был хорош, у начальников же на плохом счету. «Спесив, надменен, к тому же леностен», – говорили про него.
На приветствие вошедшего Наумова ответил Горбатов сухим кивком и не предложил сесть.
– Что вам угодно? – спросил он незваного гостя.
– Напрямки вас спрошу, по-военному, как офицер офицера, – неприязненным тоном произнес Наумов, хмуря густые брови, – пришел я проведать, чем вы занимаетесь, и вообще...
– А какое вам дело, чем я занимаюсь? И кто вам дал право задавать мне подобные вопросы?
– Я сие вершу по праву начальника, вы мой подчиненный.
– В первый раз слышу. Считал себя в подчинении у оберкоменданта Валленштерна.
– Вот бумага, приказ. – И Наумов бросил официальное предписание на стол, поверх которого лежала географическая карта. – Извольте прочесть и твердо помнить, что вы уже месяц назад прикомандированы к моему отряду.
– От подобной чести буду отказываться до тех пор, пока не получу о сем ордер из канцелярии. – И Горбатов, прочтя бумажку, небрежно положил ее вновь на стол.
– Извольте в канцелярию пожаловать за орденом сами.
– И не подумаю.
– Прошу пререкания со мной в сторону отложить – они опасны.
– Прошу принять в мысль, что грубый ваш тон по отношению ко мне тоже для вас может стать опасным! – Темные, в упор устремленные на секунд-майора глаза Горбатова засверкали.
Наумов смутился и, сдерживая голос, спросил, прихлопнув рукой географическую карту:
– Это что за карта и откуда взялась она?
– Вам до этого нет дела! Впрочем, это карта Польши... Речи Посполитой.
– Ах, Польши? Очень хорошо! Эта карта ваша?
– Она принадлежит Плохоцкому...
– Ах, Плохоцкому? Чудесно!
– Смею спросить, вы ко мне явились как офицер или как полицейский чин?
Наумов, не вдруг поборов невольное внутреннее беспокойство, ответил:
– И то и другое...
– Ах так! Приятно слышать, – воскликнул Горбатов и, усмехнувшись, подал гостю стул. – В таком разе прошу присесть.
«Давно бы так, сукин сын», – не поняв злой насмешки столичного офицера, подумал простяга Наумов и сказал:
– Не утруждайте себя! Я скоро откланяюсь.
Ему очень хотелось как-нибудь уколоть задиру, загнать его в тупик, и он официальным тоном спросил его:
– Скажите, господин прапорщик, чего ради вы отсутствовали при вылазках из крепости третьего числа, девятого числа и сегодня утром?
– По причине уважительной, – подумав, ответил Горбатов. – Я страдаю желтой гипохондрией, это болезнь души, а телесный недуг мой – это подагрическая немочь.
– Имейте в виду, ваши дальнейшие уклонения в делах против самозванца будут истолкованы высшим командованием вам во вред.
– Имейте в виду и вы, господин секунд-майор, что больной воин – помеха делу, а не помощь. – Горбатов схватился за виски, застонал и стал вышагивать по комнате.
– Что с вами? – жестко спросил Наумов.
– Начинается гипохондрия...
– Да что это за гипохондрия такая? Не доводилось слышать.
– Это сильный душевный припадок. В состоянии гипохондрии я готов схватить пистолет и застрелить кого угодно... И в ответе не буду.
Наумов вытаращил глаза. У него на языке вертелся последний, но главный вопрос: «А правда ли, что, по имеющимся у нас сведениям, вы сеете противозаконную смуту промеж солдат?» Однако, поймав глазом лежащие на ломберном столике два заряженных пистолета и в точности не представляя себе, что есть гипохондрия, Наумов от приготовленного вопроса воздержался и через минуту ушел, сказав примиряюще:
– Ну, не взыщите. Уж как умел. Может быть, что и не так... Уж не взыщите.
Как только за ним затворилась дверь, к Горбатову вышел из своей горницы пан Плохоцкий – лысеющий, с жирным усатым лицом, подбородок бритый, круглый, с ямочкой, глаза большие, водянистые.
– Хе-хе-хе... Гипохондрии испугался?
– Гипохондрии, – сказал, смеясь, Горбатов. – А человек, видать, хороший и отличный боевой офицер, каких здесь не то что мало, а вовсе нет...
– О-о! А я что вам, пане добродию, молвил? Все офицеры русской армии – дрянь!
– Ах, оставьте пане Плохоцкий! – с раздражением бросил Горбатов. – Младший и средний командный состав офицерства, особливо же солдатство, у нас золото.
– Может быть, и золото, только фальшивое.
– А кто вашего брата бил под Баром, кто бил Фридриха, кто бил турок? А вы забыли, как Стефан Баторий, ваш наймит круль Батур, на Пскове зубы обломал при Иване Грозном? Забыли?
– Цо то, цо такое? – подбоченясь и наступая на Горбатова, повысил голос пане Плохоцкий. – Наш польский народ... О-о, велика мосць!
– Да вы, пане, знаете ли свой народ?
– Я не знаю свой народ, я? Да я за польский народ саблюкой бился! – с наигранным пафосом ударил Плохоцкий себя в грудь ладонью. – Я ранен, я кровь за него пролил!
– Вы не за народ, а за шляхту бились. А свой народ вы зовете «быдло» и презираете его. Кто за народ стоит? Правду в народе ищет? Ну-ка, скажите.
– Может быть, вы Емельяна Пугачева сюда причислите, а? – осклабился Плохоцкий.
– И причислю! – подхватил, волнуясь, Горбатов. – Хоть он и Пугач, а воистину за народ и с народом! А до него Степан Разин был, Болотников был, Некрас и другие прочие. Вот доподлинные вожди народа, а не ваши разные Пулавские.
– От-то чертяка! Бардзо мувит...
Плохоцкий, смущенно улыбаясь, подошел к этажерке, стал вытаскивать и машинально перелистывать книги офицера Горбатова. Вдруг круто повернулся к нему, снова ударил себя в грудь и, раздувая густые усы, крикнул:
– Пан Плохоцкий всегда за народ! Бежим к Пугачеву! Цо?
Горбатов с изумлением отступил на шаг, смерил насмешливым взглядом петушившегося Плохоцкого и, не сдерживаясь, рассмеялся.
– Что? К Пугачеву? Ха-ха! Не знаю, как вы, пане Плохоцкий, а вот я действительно, кажется, сбегу... – серьезно ответил он. – Я признаю в Емельяне Пугачеве зело одаренного человека. Возьмите его легкие войска, его каждодневные шермиции. А как они нашего Валленштерна оттузили, а как Кара расколошматили или сегодня поутру зеваку Чернышева? У него, у Чернышева, войско немалое было да пятнадцать пушек. Ведь я, нарядившись в хозяйский архалук да шапчонку, с утра на валу толокся. А недавнишний приступ самого Пугачева с конницей?.. Ведь едва-едва крепость не взяли. А его артиллерия? Палят хлестко, дай Бог всякому! Весь город под обстрелом... помните? Нет, что-что, а голова у Пугачева – золото!..
– Жебы его вшистци дьябли взели!.. Цо? – возразил по-польски пан Плохоцкий.
Их оживленную, с пикировкой, беседу прервал гул пушечных выстрелов. Прибежавший с улицы столяр, хозяин, приотворил дверь и крикнул:
– Эй, постояльцы! Бригадир Кофт вступил в город!
Бригадир Корф на соединение с Чернышевым не пошел, а, оставя Верхнеозерскую крепость, переправился на реку Яик и принял путь к Оренбургу противоположным берегом. Вскоре соединился с казаками, высланными Рейнсдорпом. Невдалеке от крепости примчался к Яику сильный отряд пугачевцев. Но было уже поздно: их отделяла от Корфа река, да и крепость с дальнобойными пушками была под носом.
Корф привел с собою полторы тысячи солдат, тысячу казаков и двадцать два орудия. Но этот большой отряд мало что мог дать оренбуржцам: солдаты Корфа были худоконны и к боевым действиям почти что не пригодны. Словом, две с половиной тысячи малополезных едоков не были находкой для полуголодного, впавшего в беду Оренбурга. Но все же в честь их была произведена пальба с верхов крепости.
2
Пугачев сидел в золоченом кресле. В некотором отдалении от него – четыре угрожающие виселицы с четырьмя угрюмыми палачами. Страховидный Иван Бурнов ладил из аркана петли, деловито перекатывал чурбаны, на которые, с петлей на шее, будут ступать осужденные.
Все тридцать два офицера стояли вблизи Пугачева нескладной кучей, как почуявшая волка отара овец без пастуха. Выстроиться в шеренгу они наотрез отказались. Хмурые, озлобленные, с окаменелыми лицами, они стояли в небрежных позах, с руками, засунутыми в карманы, как бы стараясь этим подчеркнуть полное презрение к сидевшему в золоченом кресле бородачу.
Пугачев, едва сдерживаясь, хранил суровое молчание, затем он перевел свой взор на пленных солдат, чинно стоявших поодаль в строевом порядке, и подумал: «Эти бесхитростные».
– Как вы осмелились, – вдруг разразился он резким окриком на офицеров, – как вы осмелились вооружиться супротив меня? Как в вас совести-то хватило?! Нешто вы не знали, что я ваш государь? На солдат моего гнева нет, они люди простые. Да и то вон ружья-то побросали первые. А ведь вас силою взяли, сколько народу моего поизранили вы. А еще офицеры! Как же вы регулы военные не знаете?.. – Он помолчал. – Какой-то средь вас обормот кричал там, требовал царя показать. Вот я – царь ваш!..
Кто-то в кучке офицеров всхохотал, кто-то голосисто выкрикнул:
– Не тебе бы, вору, рацеи нам читать!
Пугачев эти дерзкие слова слышал, но сделал вид, что пропустил мимо ушей.
– Вам бы в ноги мне, государю своему, валиться да прощенья просить, а вы и в ус не дуете, кой-как, избоченясь, стоите пред императором и ручки в кармашки... – смягчив голос, проговорил Пугачев, стремясь внушить им надежду на свою милость. Но офицеры нисколько не меняли своих вызывающих поз.
Пугачев, потеряв терпение, вскочил, сжал кулаки, его глаза дико вспыхнули, он с силой крикнул:
– Смирно! Руки по швам, злодеи!
Офицеры, как бы пронизанные огненным током, вздрогнули и, не отдавая себе в том отчета, враз опустили по швам руки. Пугачев, едва переводя дыхание, сел. Он ждал, с явным нетерпением ждал, что офицеры всенародно раскаются, как сделали это Шванвич, Волжинский, прапорщик Николаев, и что он, Пугачев, кой-кому из них окажет милость: ведь добрые офицеры из служилой бедноты до крайности ему нужны. «Ну пусть бы хоть для виду признали меня, а уж что у них на душе было бы, леший с ними», – думал Емельян Иваныч.
Однако тридцать два офицера стояли как окаменелые. Их бледные лица как бы говорили: «Умрем, а присяге не изменим!»
Тогда Пугачев, выждав время, обратился к Чернышеву:
– И ты еще смеешь называть себя полковником! Какой же ты есть, к чертовой бабушке, полковник, когда свой отряд бросил да мужиком вырядился? Ежели б шел в порядке, так, может статься, и в Оренбург попал бы... Вот вы стоите передо мной, пред государем, – продолжал он более серьезно. – И волен я вас смертию казнить, волен и помиловать...
Осужденные безмолвствовали. Лицо Пугачева внезапно исказилось, меж глаз врубилась складка, он взмахнул платком и закричал:
– Вздернуть! – Он задохнулся и хриплым голосом закричал: – Всех до одного!
Осужденные стали прощаться друг с другом, некоторые обнимались. В рядах солдатства послышались соболезнующие вздохи, кряхтенье. По знаку Давилина с казнимых начали срывать одежду, стаскивать сапоги и каждого по очереди подводить к виселице.
Еще утром мечтавший о славе полковник Чернышев, ощутив на шее петлю, со смертной тоской подумал: «Вот как припало умереть».
Пугачев велел позвать попа, чтобы учинить солдатам присягу. Поп Иван был сильно выпивши. Его, облаченного в ризу, вел под руку Ермилка, внушал ему:
– Держись за меня крепче... Шагай чередом лаптями-то! Правой, левой, правой, левой!
Вдруг, и совершенно неожиданно, когда Ермилка уже раздул кадило, а поп Иван, торопясь освежиться, натирал лицо снегом, из солдатского отряда выдвинулись тринадцать стариков и, дрожа, громогласно заявили:
– Старую присягу всемилостивой государыне мы рушить не в согласии! Хошь вешай, хошь жги нас!
На минуту стало так тихо, что было слышно, как, врываясь из степи, присвистывает у виселиц тугой ветер. Но вот, пораженная небывалым случаем, толпа, окружавшая площадь, загалдела что-то непонятное.
У Пугачева сжалось сердце. Привстав с кресла, он в крайней запальчивости крикнул:
– В петлю! Всех! Офицеров и солдат... – Затем, взглянув в сторону раскоряки-попа, добавил: – А как поп присягу кончит, вздернуть и попа, чтобы без время не пил.
Поп Иван, услышав звонкий голос государя, со страху сел в снег, потом, под сдержанное улюлюканье толпы, пополз на карачках к золотому креслу.
Утомленный Пугачев сидел, низко нагнувшись. Он упер левый локоть в подогнутую ногу, подшибил ладонью щеку, будто у него зуб болел, и глядел себе под ноги, как бы рассматривая узор персидского ковра, на котором стояло кресло. По ковру бежал, поводя усами, рыжий таракан. Пугачев приподнял ногу, раздавил его.
Ударил барабан, царь вскинул голову и выпрямил корпус. Мимо него вели на казнь тринадцать старых солдат. Связанные по рукам, с седыми из-под шляп косичками, согбенные, они шли расхлябанной старческой походкой, тяжело отдирая от земли согнутые в коленях ноги. В глазах у них сознание своей правоты и примирение со смертью. Один из стариков, проходя мимо Пугачева, зорко взглянул в лицо его и, шагая к виселице, низко опустил голову. Вдруг Пугачев прищурился, схватился за поручни кресла, подался вперед.
– Давилин, беги узнай, как зовут старика... вон-вон того, что обертывается, с красным носом.
Через минуту Давилин доложил:
– Оный солдат, ваше величество, Носов... Павел Носов.
Борода Пугачева дрогнула: как бы пробудившись от сна, он провел сверху вниз по лицу ладонью и приказал Давилину:
– Немедля развязать его, отвести в канцелярию. Пускай там ждет.
Затем рывком поднялся с кресла, махнул платком, барабан смолк, солдаты-смертники остановились у самых виселиц. Громко, чтобы слышали не только солдаты, но и все скопище народа, Пугачев проговорил:
– Всем старикам-непослушникам дарую жизни царским своим именем. Их, сирых, в обман ввели офицеры. Они люди старые и на многих сражениях в чужестранных землях не единожды бились... За мать-Россию кровь лили, за дедовщину нашу. Будьте же вы, старики, вольны!
Народ, бросая вверх шапки, закричал «ура». Не ожидая, когда покончат с офицерами, царь ушел к себе. Трупы казненных были брошены в овраг, и потом долго по ночам, подвывая, бродили вокруг волки.
3
Старый солдат Павел Носов в полном душевном изнеможении сидел в углу избы, безучастно глядя перед собой и ни о чем не думая. В избу входили военные люди, о чем-то говорили между собой. За двумя, топорной работы, столами писались бумаги, пришлепывались к ним сургучные печати. Горела под шапкой копоти вставленная в бутылку сальная свеча. В углах – потрепанные разноцветные знамена с белыми крестами по полотнищам. Под лавками и на лавках – бумаги, писцовые книги, сапоги – старые и новые, со шпорами и без шпор, офицерские шпаги и шляпы, седла, уздечки, всякая рухлядишка. На полу – плевки, клочья рваной бумаги, пепел, растоптанные угли.
В окно постучал с улицы какой-то бородач и крикнул:
– К ужине, к ужине! Снедать! Эй, канцелярия!
Трое писарей и четверо сидевших на лавках пожилых казаков быстро встали. Молодой писарек дунул на свечку, сказал Носову:
– Ты, дедушка, сиди до особого приказу государева. Я тебя запру здеся-ка. Вот тебе хлебца, пожуй. Зубы-то есть, еще не все на службе выпали? Да вот два яичка тебе, а тут соль.
Носов ничего не сказал, даже не поблагодарил, он как будто и не слышал слов молодого, в суконном кафтане, человека.
Прошел час, а может – два. Стемнело. Загремел замок. В избу, широко распахнув дверь и заперев ее изнутри на крюк, вошел с большим зажженным фонарем широкоплечий Пугачев. Он был в простом темно-синем казацком чекмене, через плечо у него – широкая голубая лента с генеральской звездой, при бедре богатая сабля. Он во все стороны поводил фонарем, отыскал сидевшего в самом темном углу старика, подошел ближе и, направив свет фонаря в его лицо, просто, задушевно спросил:
– Павел Носов, узнал ли ты меня?
Лицо Пугачева было в тени, а старые глаза солдата видели плохо.
– А чего мне узнавать, – недружелюбно ответил он, ошаривая сердитым взглядом голубую ленту со звездой. – Все толкуют, что ты царь, а я этому глупству веры не даю. И ни в жизнь не дам... Государь Петр Федорыч преставился давным-давно. А ты кто? Ты набеглый царь, самозванец!
– Неужто невмочь тебе узнать меня? – еще мягче промолвил Емельян Пугачев, колупая ногтем наплывшее на фонаре сало. – Я Пугачев, казак Емельян Пугачев. Припомни-ка!
– Ась? – Носов вздрогнул, наставив к уху согнутую козырьком ладонь. Имя «Емельян Пугачев» хотя и прозвучало в его сердце чем-то близким, но незнакомый голос и чуждый вид стоявшего над ним матерого человека не вызвали в памяти старика вполне отчетливых представлений. – Ась, ась? А подь-ка сюда! – Закряхтев, он взял из руки Пугачева фонарь и направил свет в его лицо. – Ну-тка, ну-тка...
– Да ведь мы с тобой, дядя Павел, вместях Фридриха били! Как прощались с тобою, ты говорил: а доведется ли, мол, встретиться нам, Омелька?
Павел Носов часто задышал, голова его тряслась. Пугачев сказал, густо улыбаясь:
– Ну так как, дядя Павел? Подлого мы с тобой званья? Не люди мы? Помнишь слова свои тогдашние?
Носов вспомнил наконец. Вот оно что! Пред ним тот самый казак Омелька, с которым много лет назад он коротал время при Гросс-Эггерсдорфской битве[7].
– Аа-а, вот ты кто! – выдохнул он сурово и, сунув фонарь на лавку, стал приподыматься, расправляя уставшую спину.
Пугачев было бросился к нему, чтобы поддержать, но растерялся, попятился: встряхивая головой, с сжатыми кулаками, старик наседал на него.
– Злодей, злодей!.. – кричал он удушливо, брызгая слюною. – Клятвопреступник! Душегуб! Пошто ты людей-то в обман вводишь, разбойник? Пошто кровь-то льешь неповинную?.. Эвот господ офицеров на виселице вздернул! А за что?.. За то, что присяги не нарушили, тебе, неумытой харе, не присягнули... Да как это, сукин ты сын, царем-то умыслил нарекчи себя?.. Ну, вот что: не поклонюсь я тебе, Ирод! Ты вот дверь-то запер, так я в окошко выпрыгну да и загайкаю на весь народ: «Хватай Омельку, я давно знаю его, подлеца!» Так на ж тебе, царская твоя морда самозваная!.. – Павел Носов плюнул в горсть и замахнулся на Пугачева.
– Стой, старый петух, прочухайся! – И Пугачев схватил его за руку.
Павел Носов был свиреп и непокладист, как все старые, повидавшие горя солдаты того времени. Вырвавшись из рук Пугачева, он был вне себя. Он чувствовал близость конца своего и безбоязненно ждал его, как избавления от всех долголетних мук своих.
И вдруг зазвучал тихий, убеждающий голос Емельяна Иваныча:
– Эх, дедка, дедка! Поверь, не ради себя, ради всех вас, обиженных, иду, за правду постоять иду. Я ведь только супротивников народных изничтожаю, а того и народ хощет, того и народ ищет. Ты только покрепче подумай, старик, взмысли хорошенько: ведь мне-то, Емельяну-то, ничего не надобно! Нешто легко мне? Эх, не гораздо легко мне, дедушка Павел. Чую я, долго ли, коротко ли, сказнят голову мою... Ну да ведь я не страшусь. Я, дед, за сирый народ жизнь кладу. За тебя и за твоих внуков такожде, чтоб все вы вольными человеками стали. Сам же, старый, там у костра, на прусском-то походе, молвил мне: подлого-де званья мы с тобою, Омелька, не люди мы. Помнишь ли слова свои, Носов?
– Помню, ой помню! – откликнулся старик, приметно оседая духом.
– Вот я и взмыслил, Носов, чтобы в нашем царстве-государстве подлого званья и в помине не было.
Пугачев длинные речи не умел высказывать, стоя на одном месте. Он заложил руки за спину, стал шагать по скрипучим половицам. Неровный желтоватый свет фонаря скупо освещал жилище, пламя моталось во все стороны, и чудилось, что знамена в углах колебались, пошевеливалась беленая печь, подпрыгивали вверх бревенчатые стены, словно бурые выцветшие шали под слабым ветром.
Подергивая плечами, сидел в углу екатерининский солдат с седыми, распущенными по плечам, как у монаха, волосами. Он овладел собою и уже внимательно вслушивался в слова Пугачева, которые становились все сердечней, выразительней:
– Эй, дядя Павел, дядя Павел!.. Много ль заслужил ты солдатством своим? Ноженьки твои едва несут тебя, стар ты стал, всю силу свою порешил на царской службе. А кто приют тебе даст на старость-то бездомную? Под забором где-нибудь смерть примешь, как пес. А ведь всю жизнь ты отечество защищал, Россию защищал, в бомбардирах ходил. Вот и теперь, Павел Носов, и теперь супротив меня как супротив разбойника шел, за царицу на виселице возжелал самолично умереть, за бар да за начальство стоять хотел. Ну-тка ответь по чистой по совести, супротив кого на дыбки поднялся? – Пугачев, круто повернувшись, остановился вблизи солдата. – Супротив народа шел ты, Павел. А народ проснулся, проснулся-таки на один глазок, народ воли захотел да земли барской, да с великим тиранством помещичьим расчесться порешил народ... С тем и в цари над собой меня поставил... меня, в цари!.. Чтоб я землю учинил от бар всю пусту! А что я, простой казак, в цари залез, так ведь и от черной коровы молоко-то белое... Правду ли говорю, Носов, ась?