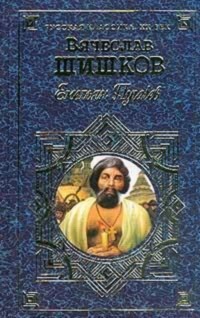
Емельян Пугачев, т.2
– Так, государь! – вскинув открытое, бодрое лицо, внятно произнес Шванвич.
– Так, – тихим голосом подтвердил и Волжинский, тотчас опустив голову.
– Добро, добро! – промолвил Пугачев и взмахнув платком, закричал: – Слышь, гренадеры! А что, вот эти хлопцы не забижали вас, не мордовали трохи-трохи?
– Никак нет, ваше величество! – откликнулись в роте. – Господа офицеры, двоечка, хороши до нас были, милостивы.
– Добро! – повторил Пугачев. – Так вот что, господа офицеры... Мы, Божию милостью, примыслили принять вас под свою императорскую руку и поверстать в казаки... Падуров! Ты здеся-ка? Выдать им доброе обмундирование и по хорошему коню. Да чтобы беречь офицеров, беречь! – выкрикнул он, повернул назад голову и, найдя взором Митьку Лысова, погрозил ему пальцем. Затем, обратясь к офицерам, он продолжал: – Старшего ставлю атаманом, а тебя, прапорщик, есаулом. Впредь будете управлять своими гренадерами, как и допреждь управляли.
Он протянул свою правую руку ладонью вниз. По знаку Падурова офицеры целовали руку и отходили в сторону. Затем были допущены к царской руке и солдаты.
– Вот, детушки, – говорил Пугачев, утирая платком навернувшиеся на глаза слезы. – Мне опять Бог привел над вами, гренадерами, царствовать по двенадцатилетнем странствии моем: был я в Ерусалиме, в Цареграде и в Египте. Опосля того в Россию, на родиму землю, перебрался. Исходил, истоптал я ее, сиротинушку, сквозь... Самовидцем был, как простой народ страждет от лютых бояр да от чиновников. И положил я землю свою устроить, как дедушка мой родной устраивал, великий Петр Алексеич... – Пугачев снова утер слезу. – Послужите же мне, детушки!
– Послужим, послужим, батюшка, отец наш, милостивец! – неистово закричала огромная толпа крестьян, казаков, солдат.
Это был голос, которого никогда не услышать царствующей Екатерине даже в мечтаниях своих...
– Благодарствую, други мои! – отвечал Пугачев, кланяясь народу. – Держитесь за мою правую полу, во счастье будете...
«Пугачев любил народ, и народ ответствовал ему тем же – народ восторгался им и боготворил его»[1].
Вот он сидит в золоченом кресле и чувствует, что люди смотрят на него множеством глаз, люди следят за каждым его движением, за тем, как хмурятся его густые брови, как трепетными пальцами охорашивает он генеральскую ленту на груди.
И вот как бы приподнят над землей, и уже не простой, безвестный казак он, Емельян Пугачев, а некто иной, неведомый и странный. И какая-то непонятная ему самому сила захватывает его: он весь во власти этой силы. Тут разом открываются животворящие родники в душе его, и летят, летят в толпу пламенные крылатые слова, сами собой возникают жесты, исполненные всепокоряющей воли.
Наступает минута ликования, душа толпы доведена до высокого накала: позови сейчас Емельян Пугачев людей на муки, на смерть – и вся толпа безоглядно двинется за ним.
...Целование руки кончилось.
Два старых солдата, растроганные милостивыми словами Пугачева, подойдя к царской руке, пристально вглядывались в лицо его.
– Мы, ваше величество, издалечка признали вас за истинного Петра Федорыча Третьего, – говорили они, захлебываясь от волнения. – Мы ведь не единождо стаивали на карауле в Зимнем дворце и видывали вас. Только втапоры вы бороду не изволили носить, а правым глазом так же подмаргивали...
Старики, сами, видимо, веря в слова свои, говорили громко, отчетливо, обращаясь более к народу, нежели к Пугачеву.
В народе снова закричали оглушительно «ура». Громче всех кричали крестьяне: они солдатам верили не в сравненье больше, чем казакам. Крестьяне всегда были того мнения, что «казак – человек вольный, балованный, да и живет-то супротив мужика куда справней, а солдат – наш брат-савоська, только что косу отрастил, и нуждишка мужицкая – его нуждишка, он свой, ему вся вера».
– Как ваше прозвище? – спросил Пугачев у стариков.
– Я Фаддей зовусь, Фаддей Киселев, – кланяясь, ответил солдат с рыжими щетинистыми бровями и скуластым лицом. – А вот этот Самсон Астафьев, свояк мой.
– Давилин! Выдать своякам-гренадерам по хорошей шапке да замест лаптей обутки крепкие... В память нашей стречи!
Появился приблудивший к стану Пугачева расстрига-поп Иван. Он в новых лаптях, в новых суконных онучах, в парчовой, поверх полушубка, ризе; в трясущихся руках его – крест и Евангелие, похищенные в егорьевской церкви. Нос у отца Ивана сизый, вспухший, узенькие глаза заплыли. Всех пленных он быстро привел к установленной присяге. Пугачев поднялся, махнул платком и возгласил:
– Жалую я вас, гренадеры, землями, морями, лесами и всякой вольностью, охочих – крестом и бородой! – торжественно поклонился и ушел, позвав за собой Шванвича. За порогом он велел Давилину провести нового есаула в золоченую горницу, а сам прошел к себе в спальню перевести дух и выпить водки для сугрева: он изрядно прозяб, ноги в козловых сапогах совсем зашлись у него.
Михаил Александрович Шванвич, девятнадцатилетний юноша, высокий, корпусный, с открытым краснощеким лицом, на вид казался значительно старше своих лет. Он точно так же порядком продрог и, прислонившись спиной к горячей печке, с любопытством оглядывал разукрашенную, как в театре, комнату. Трон, двуглавые орлы, знамена, английские, в высоком футляре, часы, даже портрет великого князя Павла Петровича!..
Внутренне ухмыляясь, столичный офицер Шванвич думал: «Ну, конечно же, он самозванец. У него и выговор-то малороссийский. Да и манеры грубые... Значит, верно мне сказали в Казани, что есть это простой донской казак Емелька Пугачев. А вот по осанке да сообразительности, пожалуй, мог бы и царем быть. Во всяком разе, актер натуральный! Роль свою ведет с искусством. Попробуем и мы играть свою». Голова юноши наполнена сумятицей, а в душе – то надежда, то уныние. Почва под его ногами колебалась, а впереди туман, туман, полное неведение! Все его солдаты в плену, сослуживцы-офицеры уничтожены. Да и сам-то он спасся чудом. Да и спасся ли?
– Скажи-ка, друг, откуда ты будешь родом? – прервав его мысли, заговорил вошедший Пугачев и сел к столу, на котором в порядке лежало несколько письменных приказов.
– Родился я в Петербурге, – ответил Шванвич. – Покойная государыня Елизавета изволила крестить меня.
В густых усах Пугачева промелькнула озорная усмешка. Взглянув в лицо Шванвича, он подумал: «Ты, брат, вижу, такой же крестник Елизаветы, как я был когда-то... хе-хе... крестником Петра Великого», – и сказал, расчесывая гребнем бороду и челку на лбу:
– Так, так!.. Значит, есть ты – Шванвич? Ну, так я про тебя и про родню твою от тетушки Лизаветы слыхивал. Не твой ли батька, алибо дядя, Алешку Орлова палашом рубанул?
Шванвича эти слова очень удивили – он не знал, разумеется, что необычной силы память Пугачева сохранила случайно подслушанный много лет назад, в Кенигсберге, разговор пьяных офицеров об той истории.
– Сей грех приключился с моим родителем, лейб-компанцем, тоже гренадером, – пролепетал Шванвич, широко открыв на Пугачева свои серые вдумчивые глаза.
– Жалко, что он, родитель твой, головы Алешке-т не смахнул, все бы одним недругом помене на свете было. – Пугачев вздохнул и потупился.
– Обидчик вашей персоны есть и кровный обидчик моего отца, каковой через Алексея Орлова по сей день в опале, – приходя в себя и пряча лукавый огонек в глазах, молвил Шванвич.
– Вишь ты! – воскликнул Пугачев, сделав в воздухе угловатый жест указательным пальцем. – Стало, мы с тобой вроде как... равнообиженные... Ну, ин ладно! А вот полковник Лысов сказывал мне, что ты маракуешь говорить по-иностранному. Верно ли?
– Так, государь, умею.
– Ну, так подь-ка сюда, на тебе вот бумагу да перо, возьми вон в том месте напиши что-либо по-шведски...
Шванвич молча взял из рук Пугачева исписанную четвертушку бумаги – указ приказчику Воскресенского завода П. Беспалову, перевернул ее и принялся писать. Он шведского языка не знал, написал по-немецки: «Ваше величество Петр Третий».
– Теперь напиши еще... какой ты знаешь язык.
Шванвич написал по-французски: «Великий император Петр Первый».
Пугачев поднес листок к глазам, наморщился, проговорил:
– Эх, худо видеть стал, все глаза-то выплакал из-за злодеев, из-за гонителей своих. – Он достал очки, протер их уголком скатерти, неуклюжим жестом оседлал ими нос и долго всматривался в написанное, затем сказал: – Мастер! Дюже хорошо обучен. Ты пригодишься мне. Авось Бог приведет иноземным королям писать да государям. Обо мне вся земля услышит, а как дойдет до дела, все государи-одномышленники за меня горой вступятся. Я-то искони русский, не Катерине, а мне владеть русской землей... Ну да то еще долга песня! – Он взглянул на портрет Павла Петровича, хотел еще что-то сказать, но только махнул рукою: – Ну, иди! Служи мне верно. Да в порядке себя держи! – добавил с непонятными Шванвичу рассеянностью и равнодушием.
Шванвич ушел. В прихожей то и дело хлопала наружная дверь, стучали подкованные каблуки, слышались сдержанные голоса, иногда дверь в золоченую горенку приоткрывалась, высовывалась чья-либо борода. Пугачев отмахивался рукой, дверь со скрипом закрывалась снова.
Швырнув очки в ящик стола (он в стекла их ничего не видел), Пугачев с напряжением всматривался в мудреную пропись Шванвича. Раздувая ноздри, долго посапывал и морщил лоб. Затем взял перо и, поглядывая на бисер букв, стал писать каракульки. Рука, ловко владевшая саблей, с трудом держала мягкое гусиное перо... Дверь скрипнула, он бросил перо и поднял голову. Перед ним, покашливая в горсть, стоял Максим Шигаев.
– Слышь-ка, Максим Григорьич! – сказал Пугачев, прикрывая широкой ладонью бумагу. – За этими хлопцами – Шваныч да другой с ним – треба покрепче досмотр держать.
– Да ведь их, офицеров-то, много понахватано, батюшка Петр Федорыч, их без малого дюжина теперь у нас. Конечно – дворяне! За ними глаз да глаз!
– Мне желательно не в ком ином прочем, а в Шваныче увериться, – прервал его Пугачев. – Он иностранным обучен и нам горазд надобен. Ежели по молодости лет будет в нем шатание, ну так и одернуть можно, чтобы опять к нашей дорожке потянул. Смекаешь? Шваныч, я чаю, человек хоть и молодой, а кубыть надежный. Я чаю, Шваныч назад глядеть не станет. Его отец от вышнего начальства обиженный, а по отцу – обижен и сын. Смекаешь, что к чему? Алешка Орлов, граф, отца-то изобидел, отец-то харю Орлову, графу, порубил палашом, из-за княгини одной перетырка вышла у них. Она и того и другого приголубливала, а собой такая – взглянешь, закачаешься, одно слово – фрухт, – с легкостью, даже с оттенком удовольствия плел измышленье Пугачев. – И вот сдается мне, Максим Григорьевич, что хлопец не больно-то правителями довольный, а скорее всего нашу руку станет держать. Глаза у него дерзкие, и как сказывал он мне про обиду, аж затрясся весь. Ты как полагаешь?
Житейски опытный Шигаев не мог не согласиться с доводами Пугачева, но в его душе гнездилось врожденное предубеждение к дворянству, и, мазнув концами пальцев по надвое расчесанной бороде, он уклончиво ответил:
– Время укажет, батюшка Петр Федорыч. Правда, что он не сам пришел к нам, а привели его... Ну да ведь своевольных-то дорожек ихнему брату, дворянам, к нам и нетути... Да еще надобно дознаться: богаты его родители алибо малосильны; родовитые господа алибо захудалые какие обсевки в поле?
– Бедные его родители, самые бедные! Он сам так толковал... – поднял голос Пугачев; ему очень хотелось склонить упорного и подозрительного Шигаева на сторону Шванвича. – Одним словом, Григорьич, недельки через две ты отрепортуешь мне о нем... Ты что, по делу?
– По делу, Петр Федорыч. Наши патрули «язычка» сграбастали. Схваченный показал, что-де полковник Чернышев с Сорочинской подступает, а оттуда в Татищеву-де ладит идтить, а опосля и в Оренбург.
– Это который Чернышев?
– А он симбирский комендант, его отрядил казанский губернатор идтить походом по Сакмарской линии к Оренбургу. Рейнсдорпа вызволять.
– Чернышева до Оренбурга допущать не можно, Григорьич.
– Да уж постараемся...
– Ежели сила не берет, хитростью надо обмануть.
– Время придет, обманем, батюшка.
Пугачеву понравился этот ответ, он усмехнулся, спросил:
– От атамана Овчинникова вести есть?
– Есть, Петр Федорыч. И об этом деле я доложиться пришел. От Овчинникова только что гонец прибежал: Кар-то дюже побит.
– О-о-о!.. Ведут ли его?
– То-то, что нет. От Юзеевой наши поворотили его да взад пятки верст на двадцать угнали...
– Эх, дураки!.. Генералишку не могли словить!.. – вскочил Пугачев и, руки назад, стал в волнении вышагивать по комнате.
– Да вы, ваше величество, не печалуйтесь. Мы бучку дали генералу и добро! Человек до двухсот повалили у него. А к нам сотню конных мужиков да татар с солдатами переметнулось от Кара-то.
– Добро, добро! Солдаты, видать, склонны повсегда к нам, Григорьич. Так, стало быть, Кар докаркался? Стало быть – победа?
– Победа, батюшка! И так и этак победа!
Пугачев подошел к лестнице на кухню, распахнул дверь и гаркнул вниз:
– Эй, кто там живой! Подать нам с полковником Шигаевым винишка покрепче, а на прикуску редьки тертой с маслом да жареной баранинки с жирком. Живо! Одна нога здесь, другая там!..
2
Два бывших гренадера – старик Фаддей Киселев и молодой Брусов, уже с обрезанными косами и в казачьих шапках-трухменках, поджидали Шванвича на улице.
– А мы уж вашему благородию и хибарку разыскать спроворили, – сказал старик, приветливо улыбаясь. – Извольте идтить за мной!
Втроем шагали они улицей. Народ уже разошелся со зрелища по своим делам. Навстречу попались подвыпившие казаки. Раскачиваясь в седлах, сладко улыбаясь и полузакрыв глаза, как соловьи, они горланили песню.
– Зюкнувши! – подмигнул в их сторону молодой Брусов и облизнулся. – Ох и гуляки же эти казачишки!
По дороге тянулся большой крестьянский обоз с бревнами. То здесь то там, между старыми жилищами, на огородах и в поле, не одна сотня мужиков наскоро рубили себе избы.
За четыре дня было выстроено до шестидесяти кой-каких хатенок, с глинобитными печами, об одном крошечном оконце, затянутом распяленным бычьим пузырем или тонкой льдинкой. А лесу заготовлено еще на сотню изб.
Тут же, на стройках, возились бабы; они доили коров, кормили овец, свиней: многие крестьяне, разгромив господские владения, перебирались в государев табор со всем своим имуществом, не забыв при этом прихватить и кой-что из барского добра. Крестьяне были одеты пестро: и в последнюю рвань – прореха на прорехе, и в добротные тулупы с полушубками. На ногах валенки, лапти, яловые сапоги с подковками.
Возле кустарника работали две новые кузни. Бежавшие от господ крестьяне-кузнецы подковывали казацких лошадей, делали для мужиков острые, в виде рогатки, копья или оковывали железом концы закомелистых березовых дубинок.
– Это лучше сабли ошарашит! – смеялись крестьяне, пробуя дубинки.
Всюду костры, дымки, говор, смех, визг пил, стук топоров. Там вздымали верхний венец, поухивали: «Раз-два, еще разок! Раз-два, матка идет! Раз-два, подается! Пошла-пошла-пошла!»
Шванвич, шагая к себе, с удовольствием присматривался к этому живому, деятельному бытию. Фаддей Киселев хотя и хмурил для порядка рыжие щетинистые брови, но тоже посматривал по сторонам одобрительно, а в серых, глубоко посаженных глазах поблескивали искорки восторга. «Вот она Расея... Зашевелилась!» – внутренне улыбаясь, думал Киселев.
За околицей, до самого перелеска, расстилалось большое поле, усеянное какими-то закоптевшими буграми, из которых клубились сизые дымки, как будто под снегом по всему простору горела земля. А там подальше, в огороженном жердями огромном притоне, табунились косяки лошадей, над ними плавал в морозном воздухе туман. Справа стояли бесчисленные стога бурого сена, между дымящимися бугорками разъезжали на низкорослых, но сытых, исправных лошаденках люди в остроконечных шапках.
Небо было высокое, бледное. Солнце склонялось к закату.
– Тута-ка башкирцы кочуют, орда. Это их стойбище. Ишь, землянок да нор понарыли, чисто кроты! – пояснил старик Киселев.
– А где же казаки? – спросил Шванвич.
– А те, кои в чинах алибо по возрасту стары, в самых Бердах живут, в селенье, а молодежь-то по огородам, в банях да в сарайчиках, а то и в землянках, по-походному.
– А наши где?
– Сейчас дошагаем! Горе мое, ноги-то обманывают меня, гудут и гудут!
Путники свернули в прогон. Навстречу – казачья полсотня с пиками и со значками. Впереди – есаул. Усталые кони клубятся паром. В середке два всадника поддерживают с боков третьего, тот бессильно изогнулся в правую сторону, постанывает, ежится, голова упала на грудь. Сзади, на двух конях, раненые казаки, татары.
– Откудов, сынки? – невпопад полюбопытствовал Киселев.
– А ты ослеп, чего ли?.. – огрызнулись казаки. – Не со свадьбы жа... Покалеченных везем... Под крепость подступали, ошибка была.
Путники постояли, сочувственно поглядели им вслед, пошли дальше. Вскоре все трое остановились возле маленькой крайней избушки.
– А вот тута-ка и палаты ваши, – сказал Киселев.
На задах избы, на обширном, в десятину, огороде, работала вся гренадерская рота. Солдаты строили себе землянки, грелись у костров, курили трубки.
– Ну, как, кипит работка, молодцы? – спросил подошедший Шванвич.
– Кипит, ваше благородие! – с добростью ответили солдаты. – Еще денечек, и в тепле мы. Да крестьянство баню обещало нам сварганить. Тогды нам прямо рай!
Шванвич с Киселевым и Брусовым вошли в избу. Застекленное оконце промерзло, давало мало света. Присмотревшись, Шванвич заметил две деревянные кровати; на одной из них, на сенном тюфяке, лежал в мрачной задумчивости Волжинский.
– А кто же в этой избушке на курьих ножках жил? – спросил Шванвич. – Уж не Баба ли Яга?
– Никак нет, тут мужской пол жил, – ответил Киселев, стоя навытяжку. – Полячок один, фидерат прозывается, да казак, да офицер. Казак будто в полон попал, полячок в сшибке убит, а офицер повешен.
– За что офицер-то?
– Да чевой-то супротив государя провирался, – сказал Киселев, и глаза его стали злыми, – с изменой, известно, турусы разводить неча!
Волжинский при этих словах порывисто поднялся, накинул шубу и, хмурый, вышел. Шванвич, посмотрев вслед ему, сказал:
– Ты, Киселев, с нами будешь жить. Согласен?
– Ой, ваше благородие! – обрадовался старик. – Да с полным нашим удовольствием!
– Эх, черт! – воскликнул Шванвич. – Жаль, вещишки пришлось бросить в пути.
– Никак нет, ваше благородие, – и Фаддей Киселев выволок из-под кровати походный чемодан Шванвича. – Вы бросили, а мы с Ванькой Брусовым подобрали. Как можно... Вот и ключик, пожалте, ключик-то я нарочно отвязал да в карман сунул, а то кто его ведает, тут народ аховый.
Растроганный Шванвич крепко обнял старого гренадера. Ванька Брусов, получив разрешение, ушел. Старик затопил еще не остывшую печку, принес из чулана кислой капусты, бок баранины, сбросил старенький мундир, засучил рукава рубахи, стал готовить щи да кашу.
– Таперича заживем, вот как заживем, ваше благородие!
– Только долго ли жить-то доведется, – вздохнул Шванвич, разбирая свои вещи.
– Вот то-то и оно-то, – ответил Киселев, – никому знать не дадено, один Бог знает, правда ли верх возьмет, алибо опять кривда укрепится. Ох, грехи, грехи!..
– А что же ты правдой считаешь и что кривдой?
– Ах, ваше благородие, да ведь правда-то на мужицкой стороне, ведь вся Расея-то на мужике стоит, мужиком кормится. Алибо взять бусурманскую войну. Кто турку побеждает? Опять мужик!.. Эх вы, косточки мужицкие!.. Дюже мне жалко вас...
Шванвич внимательно вслушивался в грубоватый говор Киселева. Ему нравился этот простосердечный, услужливый старик. Да и сам Фаддей Киселев за дальнюю дорогу успел присмотреться к Шванвичу и полюбить его.
Шванвич с удовольствием раскладывал свои пожитки по кровати. Вот зеркальце, три куска пахучего мыла, бритва, ножницы, свечи, походный подсвечник, чай, сахар, иголки, нитки, белье и, главное, с десяток немецких и французских книг, купленных им в Петербурге. Вот они, ненаглядные!.. С ними можно коротать время, в часы душевной тоски они унесут его мысль в область фантазии чудесной... И он готов был целовать свои книги, как горячо любимую женщину.
Бритва! «Ну, уж нет, надежа-государь, хоть ты и пожаловал нас бородой, а я все же буду бриться!» – подумал он и провел ладонью по заросшей щетиной щеке.
– Вот я и толкую... Мужик натерпелся ой как! Ведь вы сами, ваше благородие, видели, как походом шли, – мужик все к царю да все к царю лататы дает, мужика таперича ничего не устрашит – ни розга, ни пуля. Уже раз заступник-царь объявился да посулил мужичку землю с волей, – мужик весь на дыбы поднимется, врагов зубами будет рвать... Миллионы их, мужиков-то!
– Толку мало в мужиках, – возразил Шванвич, приготовляясь бриться. – Вот армия придет с войны – государю, пожалуй, туго будет. Как полагаешь, Киселев?
– Вот то-то и оно-то. Войско-то у батюшки неахтительное. И порядку маловато; да и обучены, похоже, не Бог знат как... Ведь у государя все народ простой. Воевод, чтоб настоящих, нетути. А ему, батюшке, одному не разорваться стать. Вот, ваше благородие, – и Киселев, бросив мыть гречневую крупу, подошел вплотную к Шванвичу, – вот ежели б вы да и другие господа офицеры от всего чистого сердца взяли бы да и помогли наладить дело-то военное!.. Ежели офицерство поможет, дело-то крепко будет, а не поможет – карачун нам всем!.. Ваше благородие! Вот было бы добро-то!.. – Морщинистые щеки Киселева задергались, голос стал срываться. – Ваше благородие!.. Ведь один раз живем. Ты все знаешь, ты всю военную науку превзошел и на войне сражался... Уж ты прости меня, старика... Помоги, заступись, родной, за нас, сирых! – Старик, всхлипнув, неожиданно повалился молодому человеку в ноги.
– Что ты, Киселев! Да что ты, старый? – попятился изумленный Шванвич. – Встань!
– Не встану, ваше благородие! Пока слова твоего не услышу, не встану!
– Встань! – И Шванвич, смущенный, растроганный, принялся подымать гренадера. – Я всеми силами... что могу... Я ведь и сам... того... к простому люду... Я... понимаю, понимаю, старик!
Но Киселев, поднявшись и ничего не слушая, а только бормоча: «Ваше благородие, спасибо, ваше благородие!..» – схватился за голову и, шатаясь, как пьяный, вылез в одной рубахе на мороз. Он присел на крылечную ступеньку, сгорбился, взматывал головой, сморкался в рубаху и не переставая выборматывал: «Спасибо! Эх, вот спасибо-то!..»
За ним выскочил Шванвич:
– Киселев! Киселев! Да ты что?.. – и потащил старика в избу.
3
Поздно вечером, когда Пугачев уже собирался ложиться спать и, сидя в маленькой горенке, доигрывал с Шигаевым последнюю партию в шашки в поддавки, дежурный Давилин доложил о приходе Хлопуши. Пугачев велел впустить его.
Огромный Хлопуша сбросил с широких плеч лисью, с бобровым воротником, богатую шубу и, опасаясь повесить ее в прихожей («Чего доброго, стянут!»), вошел к Пугачеву, ужав шубу под мышку.
– Вот, батюшка! – сказал он, тряхнув лохматой головой.– Перво-наперво кланяюсь тебе вот этим гостинцем, – и он разбросил в ногах Пугачева лисью шубу мехом вверх.
– Благодарствую! – промолвил Пугачев и, подмигнув в сторону шубы, ухмыльнулся. – С кого снял? Ась?
– Ни с кого, батюшка, – усмехнулся в свой черед Хлопуша. – А то управитель Авзянского завода скоропостижно преставился, так он отказал тебе на поношенье. Носи на доброе здоровье, батюшка!
– Садись, Хлопуша-Соколов!
– Постоим.
– Давилин! Подай сюда бархатный кресел... Садись, господин полковник!
Хлопуша покорно хлопнулся в придвинутое кресло.
– Жалую тебя, Соколов, полковником и ставлю командиром над заводскими крестьянами, коих ты привел ко мне: над пятьюстами!
Хлопуша вытаращил на батюшку глаза, вытянул вперед руки с растопыренными пальцами и, подобно большой жабе, опрокинулся с кресла, как в омут, Пугачеву в ноги:
– Батюшка, помилуй! Какой я, к свиньям, полковник, я и грамоте-то ни аза в глаза!.. Ослобони, отец!
– Грамота ни при чем тут, – сказал, раздражаясь, Пугачев, – лишь бы человек в дело свое веру имел да честь бы блюл. Встань и не супротивничай! Объявляю тебе благодарность царскую за людей, за порох, за пушки да за пять тысяч рублев казны, что прислал мне. Пушки опробованы – добрые, бьют метко... А то что у тебя за узелок?
– А это, батюшка, второй гостинчик тебе – два «пряничка» да два «пирожка». – И Хлопуша, размотав холстину, вытащил медные увесистые плитки и подал их Пугачеву. – Орленые «прянички»-то, батюшка!
Пугачев с интересом повертел их в руках и сказал:
– Об эти пряники зубы поломаешь... Что за чертовщина?
– А это катерининские рублики, батюшка.
Пугачев прищурился и засипел язвительным смехом: