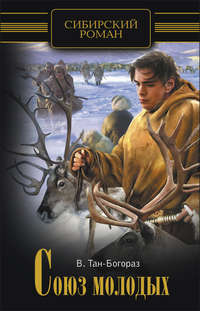
Союз молодых
Был он человек пожилой, зажиточный и по-своему весьма уважаемый в городе.
Другой отставной подсудимый был Бережнев Екимша, иначе Екимша Качконок из девичьей семьи, не лучше, чем девки Щербатых. Корень этой семьи пошел от бабушки Катьки. И оттого эту ветвь Бережневых звали Качконки, Катериничи, Бережневы, Бережные – на Колыме, это очень ветвистый корень. Есть Бережневы Ростопыри, и Бережневы Лапкины, и Бережневы Брехуны. Но Бережневых Качконков стали отличать особо. Екимшу всегда называли вместо батюшки по матушке: Еким Катеринич Бережной. Насколько Трепандин был маленький, тощий, корявый, с якутскою редкой бородкой, настолько Еким Катеринин был высокий, белявый, сырой, весь слепленный из славянского белого недопеченного теста. Он был казачьим командиром и под суд угодил за растрату казачьей муки. Растрату произвел в Верхоянске, а в Колымск сбежал, как в убежище преступников.
Знамя восстания против этого странного правительства поднял макарьевский батрак, Митька Ребров.
VIIIМитька Ребров писался «из якутского рода», но, в отличие от других колымчан, по-якутски говорил плохо. У него были светлые волосы и ужасные монгольские широченные скулы. Был он здоровый, плечистый, работал за двоих. А если устанет, закладывал за щеку черную жвачку из накипи табачной, выскребленной из его же собственного трубочного мундштука. Накипь была горькая, как желчь, и на жвачку годилась отлично. От нее пропадала усталость, как от крепкого вина.
Митька собственного хозяйства не заводил и с детства ходил в батраках у того же Макарьева. Получал он одиннадцать рублей на макарьевском чае и табаке. Пища на Колыме не считается. Жалованье Митькино было собственно двенадцать рублей, но Макарьев высчитывал рубль.
– Уж очень беспощадно изводишь табачишко, – говорил он в объяснение.
Митька помалкивал, и если в промежутках работы добудет какую лисицу или песца, сдавал их тому же хозяину. Плату выбирал портяным, т. е. тканями, из которых, как известно, шьют порты, и готовой меховой одеждой. У него были рубахи из серого сатина, что на Колыме считается щегольством, варваретовая куртка, подбитая лисьими лапками. Варварет, т. е. плис, на Колыме дороже наилучшей лисицы-огневки.
И так одевался Ребров лучше многих колымских казаков. Пил он крепко, раз в год, весною, когда приходил главный зимний караван. Но ума он не терял и даже по-настоящему не пьянел.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Сплавной лес, принесенный течением.
2
Выть – семья, род.
3
Граммофон.
4
Фотография.
5
Газета, в частности, «Правительственный вестник» с орлами на страницах.
6
Звонишь – лжешь.
7
Одна из пород крупных уток.
8
Вено – свадебный выкуп, старое славянское слово.
9
Ветер.
10
Капюшон.
11
Прорубь.
12
Налимья печень.
13
Ерник – ползучая береза.
14
Ветер.
15
Пака – Пашка. Гагарленок – гагарий птенец.
16
Обувь.
17
Микша – от «Николай» (Миколай), как Якша от «Яков», Кирша от «Кирилл».
18
Цинциннат – римский диктатор, покинувший власть, для того чтобы пахать землю на собственном участке.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов