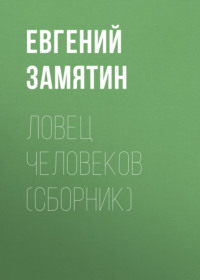
Ловец человеков (сборник)
14. Снежный узор
Каждый день вечером подходил Андрей Иваныч к Шмитовской калитке, брался за звонок и назад уходил: не мог, ну, вот, не мог он такой, проклятый, войти туда, увидеть Марусю. Как же не проклятый: зачем не убил в ту ночь генерала? Шмит бы убил.
Но и так – сидеть в постылой своей комнате и не знать, что там, – еще больше не мог.
«Господи, только бы как-нибудь увидать, хоть немного, что она…»
И на пятый день к вечеру Андрей Иваныч придумал-таки. Напялил пальто, взял было шашку, – поставил опять в угол.
– Куда это вы, на ночь глядя? – спросил Гусляйкин и, показалось Андрею Иванычу, подмигнул.
– Я… Я не скоро приду, ложись спать.
На улице снег вчера выпал. Не настоящий, конечно, не русский: так только, сверху чуть-чуть.
«Снег – это не хорошо, хрустит, и от месяца – как днем, ясно… Все равно. Надо же…»
Андрей Иваныч зуб на зуб не попадал – от холода, что ли? Да нет: мороз – не Бог весть.
Окна у Шмитов завешаны были морозным самоцветным узором. Андрей Иваныч поднялся на цыпочки и терпеливо стал дыханием согревать стекло, чтобы увидеть, – Господи, если б хоть немного, хоть немного…
Теперь было видно: они в своей столовой. Дверь оттуда прикрыта неплотно, и в гостиной синий полусвет, смутно-острые тени от пальмы – за тем самым диваном.
Дрожал, глядел Андрей Иваныч в протаянный круг. Мерзли руки и ноги. Нескоро, может, через полчаса, может, через час, пришла мысль:
– Стоять и подглядывать, и подглядывать, как Агния какая-нибудь! До чего ж, значит, я… Надо уйти…
Отошел на шаг – и стал: уйти дальше не было сил. Вдруг видел: на снежном экране окна две тени заколыхались – большая и поменьше. Все забыл, кинулся к окну, затрясся, как в лихорадке.
Проталины в окне затянулись уж снежной дымкой, ничего не понять… «Господи, что они там делают, что они делают?»
Маленькая тень поменьшела, стала на колени, а может упала, а может… К ней нагнулась большая тень…
Впился, всем своим существом ушел Андрей Иваныч в проклятую темную завесу, силится ее разорвать…
– Тр-рах! – стекло треснуло, на лбу ожог боли, мокрое. Кровь… Отскочил Андрей Иваныч, ошалело глядел на осколки у ног, стоял и глядел, как вкопанный, – бежать и не подумал.
Очнулся, – возле него был уж Шмит.
– А-а, так это вы, муз-з-зы-кант? Подсматривали-с?
Совсем близко от себя увидел Андрей Иваныч острые, бешеные Шмитовы глаза.
– Недурно! Вы здесь быстро ак-климатизировались.
«Поднять руку? Ударить? Но ведь правда же, но ведь правда…» – застонал Андрей Иваныч. И стоял. И молчал.
– На этот раз… Пош-шли вон!
Шмит захлопнул за собою калитку.
«…Сейчас же, – сейчас! Притти – и пулю в лоб… Сейчас же!» – побежал Андрей Иваныч домой. Лицо горело, как от пощечин.
Не мог теперь сказать: отпирал Гусляйкин или нет. Как будто нет, и все-таки уже сидел Андрей Иваныч за столом и глядел на револьвер, под лампой – такой противно-блестящий.
«Но ведь никто же абсолютно не видел. Но и не в этом даже дело. Главное, что ведь Маруся же одна останется – одна, с ним, ведь он, может, ее бьет, и если меня не будет…»
Он спрятал револьвер, запер торопливо на ключ. Дунул на лампу, так в сапогах прямо и бухнулся на постель.
– О, проклятый – о, проклятый трус!
…Склизкое, туманное-серое утро. Гусляйкин нещадно расталкивал Андрея Иваныча:
– Ваш-бродие, покупочки из города привезли.
– Что, что такое?.. Какие покупочки?
– Да ведь вы, ваш-бродь, сами о прошлой неделе заказывали. Ведь завтра-то, чать, Рожество Христово.
Залеченные сном мысли проснулись, заныли.
Рождество… Самый любимый праздник. Яркие огни, бал, чей-то милый надушеный платочек, украденный и хранившийся под подушкой… Все было, все кончилось, а теперь…
Было так: он канул на дно, на дне сидел, а над головой ходило мутное, тяжелое озеро. И оттуда, сверху, доходило все глухо, смутно, туманно.
Очень странно было Андрею Иванычу надеть на первый день мундир и идти с визитами. Но, заведенный каким-то заводом, пошел. Поздравлял, целовал руки, даже смеялся. Но сам слышал свой смех…
Где-то, – может у Нестеровых, может у Иваненко, может у Косинских – был спор о поросенке: как его на стол подавать? Бумажной бахромой надо его украшать или нет? Окорок, конечно, надо, всякому это ведомо, а вот поросенка-то как? И когда спросили спорщики Андрей-Иванычево мнение («Вы ведь недавно из России – это очень важно») – тут Андрей Иваныч и засмеялся, и услышал: «Я смеюсь? я?»
В каком-то доме, кажется, у Нечесов, из столовой были видны через открытые двери две супружеских, рядом стоящих, брюхатых кровати. Глядя туда и допивая, может, пятую, может, десятую рюмку, Андрей Иваныч неожиданно спросил:
– А что теперь у Шмитов?
– Чудак, да ведь у вас такое сокровище – Гусляйкин. У него спросите, он в кухне у Шмитов день и ночь, – посоветовала кругленькая капитанша.
От коньяку, от водки, от налегшей плиты ночи – мутное озеро стало еще глубже, еще тяжелей.
Андрей Иваныч сидел после визитов у себя за столом, бессмысленно глядел на лампу, не слушал, что там такое рассказывает Гусляйкин, стоя у притолоки. Потом вспомнилось: сокровище. Загорелся Андрей Иваныч и спросил, не глядя:
– А у капитана Шмита давно был?
– Нынче бал. Как же. Там дела, там дела, и-и-и… Комедия!
Нельзя было слушать Андрею Иванычу – и еще больше нельзя не слушать. Весь полыхал от стыда – и слушал. И говорил:
– А дальше? Ну, а потом что?
А когда кончил Гусляйкин, – Андрей Иваныч, шатаясь, подошел к нему.
– К-как ты мне смел такие… такие вещи рассказывать, как ты смел?
– Ваш-бродь, да вы сами ведь…
– …Как ты смел… про нее, про не-е, с-сволочь?
Хлясь, – так и ушла Андрей-Иванычева рука в бланманже какое-то, в кисельное: такие были у Гусляйкина жидкие щеки. Так это противно: как будто, вот, вымазана теперь вся рука.
15. Нечистая сила
Января двадцать пятого – мученицы Фелицаты память, генеральши Фелицаты Африкановны именины. И уж так у генерала Азанчеева заведено: обед на Фелицату и вечер званый. Да и не простой обед и вечер не простой, а всегда с закорючкой, с заковыристой загвоздкой какою-нибудь. То поднесет перед обедом всем офицершам по букету роз: «Пожалуйте, барыни, голубушки, сам для вас в оранжерее выводил, сам и рвал». Барыни, конечно, рады, благодарственны: «Ах, какой вы милый, мерси, какой запах…» Разок нюхнули, другой, да как зачихают все: розы-то табаком нюхательным позасыпаны! А то, вот, на последнем обеде в прошлом, стало быть, году такая была потеха. Обед состряпал генерал – просто на диво, а уж на особицу хвастался бульоном. И правда, – янтарный, как шампанское, островки прозрачного жира сверху, и засыпан китайской лапшой: и драконы тут, и звезды, и рыбы, и человечки. После обеда гостям уж ходить не в мочь, – повез генерал гостей кататься, обещал им какую-то диковину показать. И когда этак верст с пяток проехали, скомандовал генерал: «Стой!» – и объявил всем своим верноподданным:
– А на бульоне-то, господа, не жир это, а касторка сверху плавала. А вам никому и в голову не влетело, ха-ха-ха!
Ну-у… И что тут только же было!
Надо быть, и в этом году что-нибудь уж такое да будет. Хоть и удрал генерал в город от Шмита, хоть и сидит там по сию пору, но не может того быть, чтобы к Фелицатину дню не вернулся. Как же, ведь уже капитан Нечеса, за вечным отпуском командира – старший, получил генеральский приказ согнать всех солдат и начать работы – поле утрамбовывать… Всякие эти занятия там да стрельбы, конечно, похерили: этого добра – каждый день не оберешься, а генеральшины-то именины раз в году, чай, бывают.
И рассыпались солдатики по всему по полю за пороховым погребом, – ровно муравьи серые. Еще слава-те, Господи, туман потянул да оттеплело, а то бы землю никаким каком не угрызть. Оно, правда, грязновато, рассусолилась глина, мажется, липнет, и глядят все солдаты алахарями. Ну, да тут уж ничего не попишешь: служба. И роются, роются, тачки таскают, копошатся серые, смирные, вдвое согнутые. Не то на поле бега будут, не то еще что: до Фелицатина дня – ни одной живой душе не известен генеральский секрет…
В сторонке, на чураке сидел Тихмень, отвернувшись: надзирал за работами. Все ему было тошно: перемазанные чумички-солдаты и смирная их точнотакность. И туман – желтый гад ползучий, и пуще всего, сам он, Тихмень.
В самом деле: какой-то сопливец Петяшка, – и вдруг, все идет к черту. Раньше было все так ясно: были «вещи к себе», до которых Тихменю никакого не было дела, и были «отражения вещей» в Тихмене, Тихменю покорные и подвластные. И вот – не угодно ли! Прямо какая-то нечистая сила вселилась, ей-богу.
…Церковь, солнечный луч, Тихменя кто-то из больших уводит за руку, а он карачится, хочет еще послушать, как кликуша выкликает – любопытно и жутко: в одно время и своим кличет, бабьим голосом – и чужим, собачьим.
«Да. Разве не собачье все это? И эта гадость, любовь эта самая, и паршивый щенок Петяшка?»
А собачий голос – а нечистая сила – в Тихмене скулит:
«Петяшка… Ах, как же бы это узнать? Наверняка бы? Чей же Петяшка, в самом деле?»
– Здравствуй, Тихмень! О чем замечтался?
Вздрогнули оба Тихменя, – настоящий и собачий, – сомкнулись в одного, один этот вскочил.
Пред Тихменем в коробушке, в таратайке казенной, сидела капитанша Нечеса. Нынче в первый раз она встала с постели, и первый ее выезд был к генеральше, или, собственно, – к Агнии. Душа горела – все дотошно разведать, как и что было у генерала с Маруськой этой Шмитовой. «Ах, слава Богу, наказал ее Господь за гордыню, а то этакая принцесса на горошине…»
Посудачила, ямочками поиграла, укатила капитанша. И сейчас же на чураке опять уселось двое Тихменей, затолкались, заспорили.
Собачий Тихмень молвил:
– А капитан-то Нечеса остался ведь один теперь, да-с…
И с присущим ему собачьим нюхом отыскал какую-то, человеку невидную, тропку, побежал – и закрутил, и зарыскал по ней. Долго кружил и вдруг – стоп, нашел, вынюхал:
– Олух же, олух же я! Ну, конечно, пойти и спросить самого капитана. Уж он-то знает, чей Петяшка… Ему – да не знать?
Тихмень встал, поманил к себе пальцем Аржаного.
– Ну, как у нас дела?
В строю разиня – тут, в земляном деле, Аржаной – козырь и мастак, и за всех ответчик.
– Да так что, ваш-бродь, пошти все уж урки свои кончили. Рази там каких-нить штук-человек десять осталось…
– Штук-человек десять? Ну, ладно. – Тихмень махнул рукой: – Кончайте без меня, я пойду. Ты пригляди, Аржаной.
Торопливо Тихмень вбежал в Нечесовскую столовую. Слава Богу, капитан дома.
Перед капитаном стоял солдат. Капитан Нечеса очень важно отсыпал порошок. Подбросил, прикинул на ладони: годится.
– На вот, во здравие пей. Ну, что там, что там?..
Мнил себя Нечеса очень недурным лекарем. Да и солдат к нему веселей шел, чем к фельдшеру, или, там, к доктору: те-то уж больно мудрены.
Одно горе: уже пять лет утянул кто-то из пациентов у Нечесы «Школу здоровья», и остался у капитана только «Домашний скотолечебник». Делать нечего, пришлось по скотолечебнику орудовать. И, ей-богу, не хуже выходило: что ж, правда, велика ли разница? Устройство одно, что у человека, что у скотины.
После медицины у капитана настроение бывало расчудесное. Пощекотал он Тихменю ребра:
– Ну, что брат-Пушкин?
– Да вот, хотел, было, я спросить…
– Нет, брат, ты сначала садись, выпей, а там – увидим.
Сели. Выпили, закусили. Опять собрался Тихмень с духом, издалека стал подъезжать: то да се, да как, мол, Петяшку будет трудно на ноги поставить… Но капитан Тихменю живо окорот сделал:
– За обедом? О высоких материях? Да ты спятил! Видать, в медицине ни бельмеса не понимаешь. Разве можно – такие разговоры, чтоб кровь в голову шла? Надо, чтоб вся в желудок уходила…
Ах ты, Господи! Что ты будешь делать? А тут еще влетели все восемь капитановых оборванцев и с ними Топтыгин на задних лапах – денщик Яшка Ломайлов.
Нечесята хихикали, шептались, заговор какой-то. Потом, фыркая, подлетела к Тихменю старшенькая девочка Варюшка:
– Дядь, а дядь, у тебя печенки есть? А?
– Пече-печенки, – залился капитан.
Тихмень морщился.
– Ну, есть, а тебе на что?
– А мы нынче за обедом печенку съедали, а мы за обедом…
– А мы за обедом… а мы за обедом… – запрыгали, захлопали, заорали, кругом понеслись ведьмята. Не вытерпел капитан, вскочил, закружился с ними, – все равно, чьи они: капитановы, адъютантовы, Молочковы…
Потом все вместе играли в кулючки. Потом составляли лекарства: капитан и ведьмята – доктора, Яшка Ломайлов – фершал, а Тихмень – пациент… А потом уж пора и спать.
Так и остался Тихмень на бобах: опять ничего не узнал.
16. Пружинка
Нарочно, смеху для, распустил Молочко слух, что генерал вернулся из города. И Шмит на этом поймался. Сейчас же закипел: «Иду!»
Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничок. Положил на подзеркальник, позвал Марусю:
– Пожалуйста, погляди вот – чистый? Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь у нас ничего теперь нету.
Узенькая – еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся.
– Покажи-ка? Да, он… да, пожалуй, еще годится…
И, все еще вращая воротничок в руке, глаз не спуская с воротничка – сказала тихо:
– О, если бы не жить! Позволь умереть… позволь мне, Шмит!
Да, это она, Маруся: паутинка – и смерть, воротничок – и не жить…
– Умереть? – усмехнулся Шмит. – Умереть никогда не трудно, вот – убить…
Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной, звонкой земле шел – земли не чуял: так напружены были в нем все жилочки, как стальные струны. Шел злобно-твердый, отточенный, быстрый.
Ненавистно-знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистно-сияющий генеральский Ларька.
– Да их преосходительство и не думали, и не приезжали вот ей-боженьку же, провалиться мне.
Шмит стоял упруго, готовый прыгнуть, что-то держал наготове в кармане.
– Да вот не верите, ваше-скородь, так пожалте, сами поглядите…
И Ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне.
«Если открывает – значит нету, правда… Вломиться – и опять остаться в дураках?»
Так резко повернулся Шмит на пороге, что Ларька назад даже прянул и глаза зажмурил.
Шмит стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя сдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить! Побежал в казармы – почему, и сам того не знал.
В казарме – пусто-чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом, – что-то никому не ведомое устраивали к генеральшиным именинам. Один только дневальный сонно слонялся, – серый солдатик, все у него серое: и глаза, и волосы, и лицо – все, как сукно солдатское.
Шмит бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары. За погон что-то задело, – глянул на стену, вверх: там – на одной петельке качалась таблица отдания чести.
Шмит рванул таблицу:
– Эт-то что такое? Ты у меня…
И так ударил голосом на «эт-то», так развернул в этом слове мучительную ту пружину, что вышло, должно быть, страшным простое «это»: серый солдатик шатнулся, как от удара.
Но Шмит был уж далеко: этот серый – не то. Шмит бежал туда, где работали, – к пороховому, где было много.
Только трех солдатиков нынче, вот, и не погнали на работы: в казарме дневального, у погреба – часового и красильщика, который патронные ящики красил.
А красил ящики не какой-нибудь дуролом, какой не знает и грунтовки положить, – красил ящики рядовой Муравей, своего дела мастер известный. Не то что-что, а даже когда спектакль ставили о запрошлом году: «Царь Максимьян и его непокорный сын Адольфа» – так даже для спектакля все рядовой Муравей расписывал. И он же, Муравей, на гармошке первый специалист: как он – страдательную сыграть никто не мог. Рядовой Муравей себе цену знал.
И, вот, стоял он маленький, чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящики-то зеленым помазать – это еще дело годит. А пока что, зеленью и подгрунтовкой белой, расписывал он на ящике вид: речка, как есть живая ихняя Мамура-речка, а над речкой – ветлы, а над ве…
– А-ах! – как гром разразила его сверху Шмитова рука.
– Т-ты красишь? Ты… красишь? Я… тебе… что… велел?
И еще что-то кричал Шмит – может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова, – кричал и бил прислонившегося к зарядному ящику Муравья. Бил – и все больше хотелось бить: до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю подымать на руки, целовать – неудержно.
Со страху ли, или уж больно большим преступником видел себя Муравей, но только не кричал он. А Шмиту попритчилось тут упрямство. Нужно было одолеть, нужен был… нужен был – задыхался Шмит – нужен был крик, стон.
Шмит вытащил из кармана револьвер – и только тут Муравей заорал благим матом.
На поле за пороховым погребом услыхали. Размахивали руками, прыгали через канавы, неслись сюда черные фигуры. И впереди был Андрей Иваныч: он дежурил сегодня с солдатами.
Шмит поглядел на Андрея Иваныча, что-то хотел ему сказать, но уж близко дышали, запалились, бежавши, солдаты. Шмит махнул рукой и медленно пошел.
Солдаты стояли в кругу вкруг лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмеливался подойти. Потом вылез, кряхтя, из середины неуклюже-степенный детина, присел на карачки к Муравью:
– Э-эх, сердешный, как он тебя, знычть, ловко оборудовал…
Андрей Иваныч узнал Аржаного. Аржаной приподнял голову Муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком.
«Да, это Аржаной, тот самый, что манзу убил. Тот самый…» – И задумался Андрей Иваныч.
17. Клуб ланцепупов
Все уж это знали, что Шмит совсем как бешеный бегает. И когда нежданно-негаданно вошел он в столовую собрания, все, как по команде, притихли, прижухли, даром что навеселе были.
– Ну, что ж вы, господа? О чем? – Шмит оперся о стол с тяжелой усмешкой.
Все сидели, а он стоял: вот это будто, самое неловкое и было, вертелись. Кто-то не вытерпел и вскочил:
– Мы… мы ане-анекдот…
– Ка-акой анекдот?
«…Какой?» Как нарочно, вылетели все из головы: какой же. «А вдруг он нюхом учует, что мы говорили о нем и…»
Выручил капитан Нечеса. Поковырял сизый свой нос и сказал:
– А мы… это, да, армянский – знаешь? Одын ходыт, другой ходыт… двэнадцатый ходыт, что такой?
Шмит почти улыбнулся:
– А-а, двэнадцатый ходыт? Стало быть, капитан-Нечесовы дети…
Все подхватили, загоготали облегченно:
«Что же, он даже и ничего вовсе, даже и шутит…»
Шмит обвел их всех острыми, железно-серыми глазами, каждого ощупал отдельно и сказал:
– Господа, а не осточертело вам здесь? Не пора ли чего-нибудь этакого похлеще? А? Не ахнуть ли нам в город, в ланцепуповский клубик, например? Чуть ли не с год ведь не были.
Шмит глядел, искал: «Поедут – не поедут? А вдруг – поедут, и мы там где-нибудь встретим Аза… Азанчеева? Вдруг – ведь может же…»
Публика оживилась.
– Теперь? Да ведь о полночь уж… С ума спятить! – всю ночь переть туда – ехать… Ветер, качать будет…
– Ну-с? Как же? – усмешкой хлестнул Шмит Андрея Иваныча, уперся в широкий Андрея-Иванычев лоб.
Андрей Иваныч вышел вперед и сказал, хотя и не знал даже толком, что за клуб такой ланцепупов, – сказал:
– Я еду.
Лиха беда начать, а там уж пойдет. Загалдели: «И я, и я!» Засуетились, застегивали шинели, пошли к берегу. Не поехал только Нечеса.
На воде был такой холодина, что все языки подвязались. Свистел, жуть нагонял ветер. Дремали, сидя. Без конца, всю ночь, колотилась головою волна о железный борт.
Подъезжали на рассвете. Медленно, презрительно, величаво выкатывалось из воды солнце. Сразу стало стыдно клевать носом, вскочили, глядели на непроснувшийся, розово-синий на горе город.
Растолкали на пристани китайцев-извозчиков и покатили гуськом на пяти дребезгливых подводах на самый край города.
На звонок дверь, как у Кощея во дворце, сама растворилась: людей не видать было. Шепотом, воровато вошли в приготовленную комнату, вида необычного, очень длинную: коридор, а не комната. У одной стены – узкий, весь в бутылках, стол. А насупротив, где окна – ничего: пусто, гладко.
Шмит налил полнехонек стакан рома, выпил, рука у него чуть дрожала, глаза узились и кололи.
– Ну, что ж, господа, жребий?
Кинули жребий. Выпал орел четверым: Шмиту, Молочке, Тихменю, Нестерову. Отчего-то розовость Молочкова мигом полиняла.
– Я бросаю! – крикнул Шмит и кинул за окно большой, весело сверкнувший золотой.
На раскрытом окне опущена и парусом вздувается штора. Стали у окна попарно – справа и слева, вынули револьверы, вытянулись, ждали. Резкий, кованый профиль Шмита, острый, выдвинутый вперед подбородок, закрытые глаза…
– Но зачем же они… – поднял было голову Андрей Иваныч: ничего не понимал.
На него цыкнули: притих. У всех были красные, дикие глаза, с прозеленью лица: может, от бессонной ночи. Вихрились какие-то несуразные обрывки слов в головах. Лили в себя спирт. Сердце – в нестерпимых, сладко-мучительных тисках.
Плыл вверх солнечный квадрат на белой занавеске. Все так же молча сидели. Не знал никто: час прошел, или два, или…
Шаги по тротуару под окном. Какая-то одинаковая у всех судорога – и четыре нестройных, вразброд, выстрела.
Вскочили, взбудораженно загалдели, все кинулись к окну. У самой стены лежал на спине в ватной синей кофте манза: нагнулся было за новеньким, золотым. Но поднять, должно быть, не успел.
Уж что было дальше, не видал Андрей Иваныч. От ночи ли бессонной, от винного ли дурмана, или еще от чего, но только сомлел он. Как стоял у окна, так тут же на пол и сел.
Очнулся: совсем близко над ним Шмитовы железно-серые глаза.
– Разве мыслимо? – Шмит встал с колен, выпрямился. – Офицер, как институтка, на кровь не может глядеть. Я всегда это говорю: офицер в мирное время должен учиться убивать…
Андрей Иваныч медленно поднимался с полу – шатнулся – схватился за Тихменя.
Тихмень взял его под руку, повел к выходу:
– Пойдемте, голубчик, пойдемте. Вам еще рано, погодите…
Вышли в маленький голый садик с почернелым забором, с печально-непокрытой землей. Только недавно еще вышло на небо солнце, а уж затягивался смертной пленкой тумана его зрак.
Тихмень сбросил фуражку, провел рукой по зализам своим, глянул вверх:
– Скверно. Все скверно. Так скверно! – сказал он скрипуче. Махнул рукой, и опять сидел молча, слишком длинный, непрочный. Полз ржавый, ржавящий, желтый туман.
– Хотя бы война какая, что ли… – буркнул в нос Тихмень.
– Хороши мы будем на войне!
Хотел это только сказать или сказал – и сам того не знал Андрей Иваныч: в голове колотилось, клочьями неслось стремглав, путалось.
18. Альянс
Пост великий, мокреть, теплынь. Чавкает под ногами грязь, – так чавкает, что вот-вот человека проглотит.
И глотает. Нету уж сил карачиться, сонный тонет человек и, засыпая, молит: «Ох, война бы, что ли… Пожар бы, запой бы уж, что ли…»
Чавкает грязь. Гиблые бродят люди по косе, в океан уходящей. Чертятся на черном вдалеке белые полосочки – корабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь и сюда? С Великого поста ведь всегда заходить начинают. Вот, в прошлом году уж целых два в феврале зашли, – заверни, миленький, ах, заверни… Нет! Ну, так, может быть – завтра?
И завтра пришло. Как снег на голову, как веселый снег – свалились французы.
В тот час сидели на пристани Молочко и Тихмень, вспоминали клуб ланцепупов, глядели вдаль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее – и уж вот он, весь виден – крейсер, белый и ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и наутек пустился. А Молочко остался, загарцевал, взыграл: он первым все узнает, он первым – встретит, он первым – расскажет!
– Я счастлив приветствовать вас на далекой, хотя и русской… то есть, на русской, хотя и далекой земле…
Вот как выразился Молочко: он лицом в грязь не ударит. Ведь у него француженка-гувернантка была…
Французский лейтенантик, которому сказана была Молочкова речь, не улыбнулся – сдержался:
– Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост.
– Господи, да я… Я побегу, я – в момент, – и помчался Молочко.
Но к кому сунуться-то, к кому бежать? Никого из начальства нету, за старшого Нечеса остался. А Нечеса очень невразумителен бывает, коли не в пору его после обеда взбудить. Беда да и только!
– Капитан Нечеса, капитан… Вставайте же, французский адмирал приехал, желает пост осмотреть…
– Хрр… пфф… хрр… Ко-кого?
– Адмирал, говорю, французский!
– К ч-чертовой матери адмирала, спать хочу. Хрр… пфф…
Молочко стянул с капитана накинутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова:

