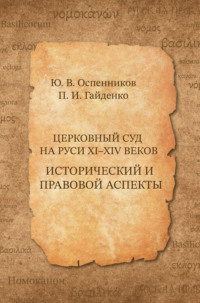
Церковный суд на Руси XI–XIV веков. Исторический и правовой аспекты
Византийское законодательство допускало, что святители и клирики могли вести «тяжи», т. е. судебные споры по каким-либо, как правило, имущественным спорам[60]. Более того, их могли изобличать в недостойном поведении, например, в открытом гомосексуализме, и в опасных преступлениях, таких, например, как государственная измена. Однако и в этом случае архиерей, клирик или чернец были ограждены массой условностей, «связывавших руки» судьям и сковывавших действия властей. Даже расправы над епископами-гомосексуалистами отражали не системный взгляд Церкви и империи на вопросы христианской нравственности, а намерения политических оппонентов расправиться с врагами из стана противника. И в этих условиях суды над архиереями, изобличенными в порочных связях, которые, между тем, как правило, не только не являлись секретом, но были хорошо известны публике, лишь придавали подобным публичным слушаниям, их решениям и казням особую неповторимую пикантность, призванную дискредитировать оппонентов[61]. В условиях Руси XI – начала XIV вв., для которой характерны низкая плотность населения, ограниченность материальных ресурсов, из которых церковная иерархия могла черпать средства для своего «достойного» существования, широкие права ктиторов и не всегда достаточно высокий авторитет митрополитов в системе управления, организация церковных судов далеко не всегда представлялась возможной. Например, Климент Смолятич так и не смог добиться наказания епископа Нифонта Новгородского[62], а митрополит Константин I при всей грозности своих действий в отношении поставленных Климентом Смолятичем клириков не решился выступить лично против русского митрополита через инструменты канонического прещения[63]. Особенности социальной структуры общества и специфичность организации политического пространства и культуры Русских земель предлагали свои формы борьбы и защиты собственных интересов как в кругу правящих элит, так и в церковной среде. Этими «инструментами» являлись ресурсы князей и городского нобилитета, влиявшие на исход решения веча. Например, оставление Киева митрополитами Константином I[64] или Климентом Смолятичем[65] предопределялись сменой княжеской власти и нежеланием новых правителей Киева иметь рядом с собой тех или иных первосвятителей.
При осуществлении духовно-дисциплинарного окормления паствы и духовенства серьезную проблему представляла административно-каноническая полифония Руси XI–XII вв. С определенной степенью допущения отмеченная черта церковно-правовых реалий Руси вполне может рассматриваться в качестве своего рода «правовой энтропии», порождаемой как нестабильностью и слабостью внутренней самоорганизации русской митрополии и даже отдельных епископий, так и динамичностью развития самих церковных институтов и церковной культуры в целом[66]. Вероятно, в условиях Руси энтропия возникла не как результат хаоса, а как ответ на усложнение социальной и политической структуры общества, еще переживавшего выход из состояния потестарности[67] и, одновременно, вовлеченного в процесс феодализации[68]. Широкая автономизация городов и усложнение отношений внутри правящего рода приводили к целому ряду конфликтов, находивших свое выражение и в церковной сфере, например в продолжительных тенденциях церковной автономизации целого ряда церковно-политических центров: Новгорода, Владимира-на-Клязьме, Турова и даже некоторых южнорусских центров в первые десятилетия ордынского господства. Здесь в условиях ослабления княжеской власти в 40-е годы XII в. местный епископат мог позволить себе провозгласить собственного митрополита и даже выступить против могущественного Даниила Галицкого[69], выразить готовность признать своим «господином и отцом» Римского папу[70] и даже проигнорировать участие в церковном Соборе 1273 г. Собственно, и само перемещение митрополитов во Владимир, а затем в Москву позволяет предполагать, что одной из причин, вынудивших первосвятительскую кафедру покинуть Киев, могли стать нараставшие с середины XIII в. между митрополитами и южнорусским епископатом противоречия.
Не меньшую проблему при решении проблемы организации и деятельности судов представляет вопрос об иерархии источников права и правовых норм, на которые опирался епископат при вынесении своих судебных постановлений. Однако самая сложная проблема – соотношение этих канонических норм с местным правом. Несомненно, русский епископат имел в своем пользовании Номоканон. И все же его применение представляло определенную сложность. Такую же сложность представляли и суды над духовенством, типология и легитимность которых заслуживает специального исследования.
Наконец, неоднозначно может оцениваться рост числа известий о церковных судах и судах над высшим духовенством на Руси, отмечаемый с середины XII в. и хорошо прослеживающийся в канонических шагах митрополита Петра во втором десятилетии XIV столетия. При всей негативной оценке деятельности епископских судов приходится признать, что уже сам факт их появления и включения в сообщения летописей и агиографических текстов указывает на рост если не канонического сознания, то, безусловно, канонических представлений и запросов современников из числа клириков, княжеского окружения и городского нобилитета. Возникает запрос на честный и справедливый суд.
* * *Как представляется, не будет большим преувеличением признать, что история церковного суда на Руси XI–XIV вв. еще недостаточно хорошо изучена. Значительно лучше в отечественной историографии рассмотрена проблема юрисдикции церковных судов. Однако при этом исследователи исходили из того, как полномочия церковного суда были закреплены в княжеских уставах Церкви и в нормах Номоканона. Сама же судебная практика, кажется, ни разу не подвергалась систематическому исследованию и была рассмотрена лишь в рамках локальных сюжетов. Между тем, ее рассмотрение позволяет заключить, что ситуация была сложнее, чем это принято считать. Церковный суд на Руси не только стремился к соответствию византийской церковной судебной традиции, но и приобретал черты, отражавшие местный культурный и политический колорит. Можно говорить даже о том, что формы и практика этого суда постоянно эволюционировали. При этом возникавшие изменения далеко не всегда предполагали строгое следование канонам. В то время, как суды митрополитов ориентировались на богатую и достаточно строгую в своих формулах византийскую правовую традицию, суды, совершавшиеся епархиальными архиереями, далеко не всегда соответствовали духу и букве канонического права империи ромеев. Однако с уверенностью можно констатировать, что уже с середины XII в. церковные суды стали важнейшим каноническо-правовым институтом, призванным регулировать настроения внутри духовенства, епископата, обеспечивая управляемость киевской митрополии и поддерживая высокий статус русского первосвятителя и константинопольского патриарха, выступавшего высшей апелляционной инстанцией по судебным спорам в Церкви.
Глава 2. Принципы древнерусского церковного суда (XI – первая треть XIV вв.)
Тема древнерусского церковного суда является сложной в том смысле, что она практически не вызывает дискуссий в науке. В обобщающих работах по истории права вопросы церковного суда в период XI–XIV вв. привычно раскрывают на основе хорошо известных норм княжеских церковных уставов, а также некоторыми отсылками к кормчим книгам. В этом отношении показательна одна из последних таковых обобщающих работ[71]. Это качественная и основательная коллективная работа, однако в соответствующей главе, посвященной судоустройству и судопроизводству, преимущественное внимание уделено правовым нормам, относящимся к подсистеме церковного права, в то время как именно особенности церковного суда практически не раскрыты. Это неудивительно, поскольку источниковая основа, с одной стороны, весьма ограничена, с другой, – представляет существенные сложности для извлечения необходимой информации.
На древнерусский церковный суд нельзя смотреть ни как на прямое заимствование византийских или южнославянских образцов, ни как на неизменные юридические формы, о которых мы гораздо больше информации имеем из источников XV–XVII вв. Древнерусский церковный суд – элемент особой подсистемы, на эволюцию которого оказывали воздействие большее количество факторов, нежели на процесс становления светского суда.
Если в рамках римского права или древнерусского права мы можем проследить определенные этапы эволюции судебного процесса – при этом на каждом этапе изменяется состав и соотношение характерных черт процесса и, нередко, изменяется их содержание[72], – то в рамках подсистемы церковного права в Древней Руси оказались в одном абсолютном пространстве и времени фрагменты разных конкретно-исторических систем.
Правовая основа древнерусского церковного суда имела сложносоставной характер, включала в себя правовые нормы, выработанные обществами, стоявшими на разных стадиях социально-экономического развития: правовые нормы, восходящие к поздним этапам развития светского на тот момент римского права; нормы канонического права, относящиеся к разным эпохам, включая и ветхозаветную традицию; нормы церковного византийского права; правовые нормы из южнославянской церковно-правовой традиции; нормы церковного права древнерусского происхождения; нормы древнерусского светского права (в т. ч. предполагавшие противоречащие друг другу нормы обычноправовой традиции и нормы, исходящие от княжеской власти).
На этот сложный характер правовой основы накладывался не менее сложный субъектный состав носителей судебной власти и участников судебного процесса. Например, жители городских и сельских общин Древней Руси, члены монастырских корпораций, – преимущественно носители обычноправовой восточнославянской традиции, но в среде церковных иерархов немало было представителей другого правосознания, выходцев из Византии и других христианских земель. С другой стороны, внутри церковных корпораций оказывались выходцы из разных социальных групп древнерусского общества, находящегося на ранней стадии процесса имущественной дифференциации, так что в одной монастырской общине могли оказаться и представители сельской общины, и формирующегося слоя бояр-землевладельцев, причем их правосознание существенным образом различалось[73]. Наконец, нельзя забывать о том, что процесс христианизации находился на ранней своей стадии, т. е. значительная часть населения являлась носителем даже не двоеверия, а, нередко, слегка прикрытого христианскими декорациями языческого мировоззрения[74].
В этих условиях трудно уверенно предполагать, на какой стадии эволюции находится та или иная характерная черта церковного суда – если в «нормальных» условиях они соответствуют развитию других общественных отношений, отражая изменения, происходящие в базисе, то в случае с подсистемой церковного суда ситуация гораздо сложнее: здесь смешаны элементы ранних и поздних стадий феодального, рабовладельческого и родоплеменного общества; в процессе формирования и реализации древнерусского церковного суда участвовали все эти элементы, но в разной степени. Отсюда следует еще одна сложность – даже если мы достоверно знаем, что какие-то канонические или церковноправовые нормы были известны в Древней Руси, это еще не означает, что они использовались.
Подсистема церковного права, сформировавшаяся и эволюционировавшая в обществе, находящемся на иной стадии социально-экономического развития, неизбежно должна была оказаться в противоречии с существующими в древнерусском обществе представлениями о праве и суде. Один из отзвуков этого противоречия донесен в летописном рассказе о том, как князь Владимир Святославич «отверг» виры, заменив их по настоянию епископов смертной казнью[75]. Летописный рассказ, независимо от различия трактовок, отражает, конечно же, не субъективные противоречия между Владимиром и греческими иерархами, а объективный конфликт между византийской и восточнославянской правовыми традициями.
В этом рассказе показательно, что инициатива о применении смертной казни приписывается только епископам, а возвращение к прежней практике вирных штрафных ставок приписывается решению «епископов и старцев», т. е. очевидно вмешательство местного правящего слоя для возвращения к прежней правовой традиции (что подчеркивается в заключительной фразе этого фрагмента: «И живяше Володимер по устроенью отьню и дедню»).
В исследовательской литературе встречается предположение, что при становлении древнерусского церковного права вполне вероятна была «сознательная опора» на правовые нормы, ставшие уже анахронизмом в Византии, но отражавшие раннехристианские порядки[76]. Эта особенность прослеживается с самого начала знакомства славян с христианством. Так, В. В. Мильков отмечает, что свв. равноап. Кирилл и Мефодий, а также другие славянские переводчики, отбирали христианскую классику и игнорировали современную им книжность Византии[77].
Почему и в сфере восприятия христианства, и в сфере восприятия права наблюдается это противопоставление раннехристианских текстов и текстов, отражающих современное состояние византийского общества? Учитывая, что византийское общество прошло с раннехристианских времен длительный путь эволюции социально-экономических отношений, в ходе которого претерпели существенные изменения государственно-политические институты и право, для славянских народов гораздо понятнее были раннехристианские тексты, в которых отражались многие элементы общинного уклада, все еще актуального для славянских племен.
В контексте сказанного очевидно, что любые предположения относительно формально-юридической характеристики древнерусского суда не могут основываться только на памятниках, содержащих правовые начала организации судопроизводства. Все эти «книжные» представления о характере судебного процесса должны получить подтверждение через конкретные примеры практики реализации церковного суда, поэтому приоритетной должна быть работа по систематизации и осмыслению конкретно-исторических свидетельств о деятельности церковных судов в Древней Руси, в то время как данные о канонических началах деятельности церковного суда имеют второстепенное значение.
Между тем, в историко-правовой литературе нередко встречаются попытки выявить некие универсальные основания церковного суда, якобы свойственные ему в течение всего периода существования. Эти представления возникают из особенностей правовых оснований церковного суда, относящихся к раннехристианскому периоду, которые представляют собой «тексты откровения», не подлежащие изменению. При этом недооценивается то обстоятельство, что даже при неизменяемости самих текстов, содержащих правовые основания, в зависимости от конкретно-исторических условий меняется правопонимание и особенности трактовок данных оснований.
В исследованиях церковных авторов общепринятым является подход, согласно которому в церковном процессе следует различать «внешние» и «внутренние» начала. Не подвергая специальной критике этот подход, отметим, что с юридической точки зрения можно говорить только о «внешних началах», т. е. о принципах судопроизводства. Одним из таких принципов, выявление которого вызывает, на наш взгляд, наибольшее количество разногласий среди исследователей, является принцип публичности.
Принцип публичности. Как уже было отмечено, очень немногие исследователи пытаются выявить конкретные принципы церковного суда. Тем не менее, в некоторых работах все же можно встретить указание на принцип публичности, который определяется как одно из «внешних начал» церковного судопроизводства, заимствованных из римского процесса[78]. Такая трактовка действительно возможна и заставляет нас обратиться, хотя бы кратко, к первым векам становления христианства и церковного суда.
Несмотря на высказываемую в современной науке точку зрения, которая принципиально отрицает потестарный характер Церкви с самого начала ее существования[79], целый ряд источников прямо указывает на большое значение общинного начала в первые века.
В этом отношении традиционно большой интерес исследователей вызывает текст Мф 18:15–18, в котором содержатся наиболее подробные сведения об особенностях рассмотрения дел в раннехристианских общинах. Уже дореволюционные историки Церкви на основании анализа этого фрагмента считали возможным выявить такие свойства церковного суда как направленность на раскаяние согрешившего, «открытость» (т. е. гласность), необходимость доказательства обвинения свидетельскими показаниями, а также публичность[80].
Если смотреть на этот текст не с теологических, а с историко-правовых позиций, то в нем очевидно проступают характерные особенности общинного правосознания: сначала предполагается возможность восстановления нарушенного порядка через неформальное воздействие на нарушителя, в ходе рассмотрения дела предполагается особое значение свидетельских показаний других членов общины, высшей мерой воздействия на нарушителя является изгнание из общины (в данном случае из общины верующих: «да будет он тебе, как язычник и мытарь»).
Становление раннехристианских общин проходило, с одной стороны, внутри римского общества, испытывая воздействие всех присущих ему противоречий. С другой стороны, в своем стремлении найти более справедливое общественное устройство, раннехристианские общины отталкивались от действующей публично-правовой модели, в т. ч. модели действующего судопроизводства с присущим ей ограничением принципа публичности. Поиски новой модели закономерно приводили к другому виду судопроизводства, основанному на широком участии общества. В рамках раннехристианских общин – к возрождению суда с широким участием общины верующих.
Этот подход, как представляется, явно отражен в упомянутом евангельском фрагменте – в нем мы видим указание на суд общины верующих, который только в более позднее время стал вытесняться епископским судом.
При этом нельзя игнорировать существующее в научной литературе обоснованное мнение, что применительно к первым векам существования христианства вряд ли можно говорить о «собственно христианском суде», поскольку чаще всего общины верующих полагались на божественное наказание[81]. Эта особенность правосознания также нашла отражение в текстах Нового Завета (1 Кор 4:5). С другой стороны, в том же послании ап. Павел призывает верующих не обращаться к обычным судебным органам, а организовать суд общины для разбора спорных дел: «…неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными» (1 Кор 6:5–6). В этом же послании отражена и тенденция вытеснения суда общины верующих судом епископов, поскольку акцент сделан на том, что «святые будут судить мир» и для разбора тяжб следует поставлять судьями людей, «значащих в церкви».
Упомянув о призыве ап. Павла создавать суд общины, следует обратить внимание, что важным элементом публичности является избрание судьи из среды членов общины по соглашению сторон.
Таким образом, есть весомые основания предполагать, что в первые века существования христианства церковный суд складывался прежде всего как суд общины верующих, основанный на принципе публичности. При этом уже в это время общинный характер суда подвергается ограничению и вытеснению под действием становления и усиления епископской власти.
В римском обществе в это же время продолжается процесс ограничения публичности в судопроизводстве. На этом фоне широкое применение принципа публичности в деятельности раннехристианских общин подчеркивает их протестную и антиримскую направленность. В то же время, получив официальное признание от римским властей, христианская Церковь усиливает заимствования из римской системы судопроизводства. Учитывая, что римский экстраординарный процесс уже не опирался на принцип публичности, данные заимствования стали еще одним источником ослабления публичности в церковном суде, в дополнение к и так уже идущему внутрицерковному процессу ограничения публичности и его вытеснения принципом единоличного мнения судьи (или решения коллегиального органа).
В дальнейшем пришедшая из Византии подсистема церковного права и церковного суда неизбежно должна была подвергнуться архаизации в условиях древнерусского общества. Уже далеко отошедшая от общинного правосознания церковноправовая традиция должна была измениться под воздействием местной обычноправовой традиции. И частью этого воздействия должно было явиться именно усиление принципа публичности.
Фоном в данном случае являются многочисленные примеры осуществления правосудия общиной или, по крайней мере, при активном участии значительной части городской общины. Также известны случаи применения подобного рода расправ к духовным лицам. Например, в 1071 г. над новгородским епископом нависла реальная угроза расправы со стороны горожан, от которой его спасло вмешательство князя[82], в 1159 г. «ростовцы и суздальцы» выгнали епископа Леона[83], в 1228 г. новгородцы учинили расправу и изгнали за пределы города владыку Арсения, предъявив ему целый ряд обвинений, подробно перечисленных летописцем[84].
На этом фоне дополнительным аргументом в пользу публичности как основы церковного суда в Древней Руси могли бы послужить отдельные правовые нормы. Например, в составе канонических ответов митр. Иоанна II предлагается порядок разбора дел по обвинению в волхвовании и чародеяниях, прямо указывающий на активное участие общества. Первая стадия – обличение лиц, обвиняемых в волхвовании и чародеянии; вторая («обратити от злых») – направлена на то, чтобы добиться от них публичного раскаяния; лишь на третьей стадии, при отсутствии раскаяния («якоже от зла не преложаться») предлагается подвергнуть наказанию для того, чтобы воспрепятствовать совершаемому нарушению порядка («яро казнити на възбраненье злу, но не до смерти убивати, ни обрезати сих телесе»)[85].
Однако, во-первых, крайне сложно, как уже отмечалось, подтвердить, что та или иная норма церковного права действительно применялась в судебной практике. Во-вторых, имеется большое количество аргументов против признания принципа публичности в древнерусском церковном процессе.
Прежде всего, обращает на себя внимание то обстоятельство, что в древнерусских источниках сведения о церковном суде в большинстве случаев подчеркивают значение иерарха. Например, в сюжете об осуждении еп. Игнатия митр. Кириллом очевиден единоличный характер принятия решения, при этом ничего не сообщается об участии собора епископов[86]. И в других случаях М. В. Печников неоднократно подчеркивает, говоря о событиях XIII в., значение единоличного мнения митрополита при решении кадровых вопросов и вопросов церковного управления[87]. Известно, что сарайский еп. Измаил был лишен кафедры и сана единоличным решением митр. Петра[88], при этом совершенно справедливо указывается, что это решение, принятое без организации соборного суда, было грубым нарушением канонических правил[89]. Решение митр. Феогноста в споре между рязанским и сарайским владыками расценивается в литературе как единоличное[90]. Хотя в историко-правовой литературе иногда высказывается мнение о сильных земских началах в решении церковных вопросов, эта позиция зачастую имеет внутренние логические слабости. Например, митр. Макарий, ссылаясь на летописный рассказ о конфликте великого князя Всеволода Юрьевича с митр. Никифором, считает стабильным и общераспространенным порядок поставления епископа, при котором сначала «князь вместе со своими подданными» определял кандидата, после чего следовало утверждение его митрополитом[91]. Однако 1) митрополит все-таки идет вопреки сложившейся практике, 2) в летописи указано, что великому князю Всеволоду Юрьевичу только с помощью киевского князя Святослава Всеволодовича с большим трудом удалось принудить митрополита изменить решение в пользу кандидата, предложенного Всеволодом; 3) более того, «своего» кандидата митр. Никифор сразу после этого все-таки поставил епископом в Полоцк[92].
Очевидно, что уже в это время формируется та строгая вертикаль церковной иерархии, которую позднее, в XIV в. мы видим в самых разных источниках. Например, в своем послании в Новгород митр. Киприан подчеркивает эту модель в отношениях всех групп «церковных людей» с епископом[93], затем в послании псковичам митрополит вновь жестко напоминает о строгой вертикали властных отношений внутри Церкви: «ведает то святитель, кто их ставит, тот и поставит и извержет, и судит и казнит и учит»[94]. В этой грамоте судебные полномочия признаются только за святителем и полностью игнорируется даже принцип соборности, не говоря уже о публичности.
При этом, говоря об усилении принципа единоначалия, связанного прежде всего с епископатом, нельзя забывать, что последний – это не какая-то отдельная часть общества. Значительная часть высших слоев древнерусской церковной иерархии формировалась из среды светских феодалов, поэтому в период феодальной раздробленности закономерным выглядит усиление самостоятельности епископата и в целом, и в отношениях с княжеской властью, в частности.
Самостоятельную проблему составляют особенности осуществления суда в рамках монастырской общины. Здесь круг членов общины узко ограничен и, казалось бы, принцип публичности имеет гораздо меньше препятствий для реализации. Однако источники права и правоприменительные акты показывают, что монастырская жизнь выстраивалась на основе преобладания принципа вертикали власти. В качестве примера можно привести уставную грамоту архиеп. Дионисия псковскому Снетогорскому монастырю, в которой он предписывал строгие наказания за попытки противоречить власти игумена: «Послушание же и покорение имети въ всем игумену: аще кто въпреки начнет глаголати и въздвигати свары, заперт таковый да будет в темници, дондеже покается; а непокориваго мниха, по первом и вторем и третиемъ наказании, выженут его из манастыря, да не вдадут ему от внесенаго в монастырь ничтоже»[95].